«Милостивые государыни и милостивые государи! Когда исто-
рик – конечно, историк, не лишенный дара обобщения, – охваты-
вает мысленно прошлое и настоящее рода человеческого, пред ним
развертывается величественное и захватывающее зрелище». Так в
1901 году начал одну из своих лекций Г.В. Плеханов. Философии в
этой исторической картине предназначалась определяющая роль –
ее осмысление. В полной мере функция философии – «матери всех
наук», распространилась на эволюцию психологического знания.
С прочтения упомянутой лекции минуло более 120 лет. Совре-
менные картины «рода человеческого» для философского прозре-
ния стали несопоставимо грандиозными, но настойчиво – «шаг за
шагом» постигаемыми. «Самое непостижимое в мире – то, что он
постижим», – размышлял А. Эйнштейн. В альтернативу возраже-
ниям оппонентов и в подтверждение жизненности установки выда-
ющегося физика в Новейшем времени несоизмеримо умножились
научные достижения и открытия, расширилась палитра гипотез и
моделей наблюдаемой Вселенной, ставших, без преувеличения,
мировоззренческим и естественнонаучным фундаментом, мето-
дологическими ориентирами настоящей и будущей психологии.
Концепции ноосферы В.И. Вернадского, энергетических полей
К.Э. Циолковского, искусственного интеллекта Дж. Маккарти, тех-
нологических волн А. Тоффлера – мизерная часть космологических,
квантовых, информационных, синергетических, гибридных, футу-
ристических и множества иных подходов, оказывающих влияние
на формирование идеалов и стандартов психологии ХХI столетия.
При всей сложности, противоречивости и многообразии про-
рывные идеи и постоянно обновляющиеся картины мироздания
Предисловие
6
остаются для поколений исследователей базисом познавательного
оптимизма, творческого вдохновения, научных поисков и фило-
софских размышлений о душевном мире человеке.
Как удачно выразился Б. Шоу, «наука никогда не решает вопроса,
не поставив при этом десятка новых», которые также ждут ответов.
В данном контексте уже в Древнем мире ученые пришли к выводу
о том, что процесс познания бесконечен. Как следствие, эволюция
наук стала «зрелищем» не менее впечатляющим, в то же время ди-
намичным и многоступенчатым. На первых этапах происходило
зарождение и становление научного знания. Эти периоды требовали
значительных усилий по его теоретическому, информационному,
организационному, технологическому и другим многоуровневым
видам обеспечения. «Все сразу и вдруг» не наступало, за каждым
следующим шагом науки была многолетняя кропотливая работа по-
колений ученых, школ и направлений. Так совершались открытия,
прирост и накопление знаний, так развивается современная наука,
формируются ее стратегии, программы, дисциплины и отрасли.
На завершающем этапе как незыблемый познавательный им-
ператив наступает новая – рефлексивная стадия, философское
осмысление проблем и достижений, прошлого, настоящего и
будущего наук. Данный период требует не меньших знаний, ресур-
сов, напряженного труда, интеллектуальных и волевых действий
научного сообщества, чем предыдущий. Психологии с многове-
ковым прошлым и ее исторической отрасли этой эволюционной
закономерности – обращения к философскому самопознанию,
не избежать. Психологам приходится смириться с мыслью о не-
обходимости прироста «своей науки» рефлексивными отраслями
знания и придания им дисциплинарного статуса.
В иерархии наук философия с Античности занимала почетное
положение наивысшей рациональной формы отражения реаль-
ности – прояснения «миров человека». Постулаты диалектики,
скептицизма, стоицизма, других древних школ и направлений в
различных модифицированных формах до сих пор являются орга-
ноном философии и в целом «большой науки». Вместе с тем «вечная
страсть» философии к анализу и оценке, а иногда и пересмотру
«приговоров» прошлому сближает ее с историей. Отсюда предпо-
сылки, причины и природа философии психологии и ее историче-
ской отрасли очевидны и понятны, а претензия философии истории
психологии на осмысление эволюции психологического знания
представляется обоснованной, необходимой и востребованной.
7
С давних времен сложился стереотип: кто пытается размышлять
или писать о философии, неизбежно должен ответить на вопрос,
зачем и как намерен это делать. Следуя крылатой фразе О. Бальза-
ка о том, что «ключом ко всякой науке является вопросительный
знак», логично задать и другие вопросы: почему в названии моно-
графии «неопределенная» отрасль знания; зачем «придумывать»
философию истории психологии, когда известен целый спектр
авторитетных областей науковедения: эпистемология, методо-
логия, социология наук и т.п.?1 Тем более данные направления
как формы научной рефлексии в целом разработаны и общепри-
знаны. В попытках ответов на поставленные вопросы «не все так
просто».
Во-первых, настоящее и будущее психологии, как и других наук,
определяется наличием и учетом их исторического опыта. Знания
наработок прошлого – фундамент достижений и прогресса в любой
научной сфере. В то же время история несостоятельна без философ-
ского осмысления своего пути. Формулировки исторических уроков
и выводов, открытие достижений для настоящего и будущего, от-
ражение тенденций, закономерностей и законов, составление про-
гнозов эволюции наук – итог огромной интеллектуальной работы
философов различных эпох. Без этого история наук превратилась
бы в повествование или в лучшем случае прозаичное отражение
накопленных фактов. Как обращал внимание В.И. Вернадский,
«сухая запись или документ, лежащие в основе исторического
изыскания, дают лишь отдельное представление о реально шедшем
процессе»2.
Заметим, что уже в древних мифах, легендах и сказках, первых
источниках исторического знания как донаучная, но уже логиче-
ская норма присутствовали обобщения, умозаключения, советы и
назидания. По оценке Аристотеля, «пословица – сохранившийся
обломок древней философии». На основе историко-философского
фундамента зарождались и эволюционизировали науки: от древней
шумерской астрономии и космологии Платона до современных фи-
зико-математических моделей Вселенной; от этических концепций
Античности до гуманистических направлений мировой науки; от
1 Подробнее см.: Науковедение и новые тенденции в развитии российской
науки / Ред. А.Г. Аллахвердян, Н.Н. Семенова, А.В. Юревич. – М., 2005;
Якунин Л.С. Философские вопросы науковедения: Монография. – Орел,
2018.
2 Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. – М., 1981. – С. 28.
Предисловие
8
протонаучных представлений о духе и душе до психологических
теорий XXI столетия.
Во-вторых, непрекращающиеся научные прорывы, постоянно
обновляющиеся картины мира, парадигмы и типы рационально-
сти, различного рода кризисы, догматические и волюнтаристские
коллизии, всевозможные редукционистские «проклятия» и иные
проблемы преследуют психологию с момента ее зарождения до
наших дней1. Становится очевидным, что при осмыслении исто-
рии психологии в рамках прошлых рефлексивных конструкций о
«светлом будущем» этой научной отрасли придется забыть.
Философские размышления, теоретические и методологические
концепции, представленные в трудах уважаемых ученых прошлого,
для настоящего и будущего психологии актуальны и значимы, но
уже недостаточны: в XXI веке они закономерно требуют развития.
Пребывание в состоянии «приятного неведения» о многогранном
образе и потенциале своей науки у современного весьма компе-
тентного психологического сообщества уже «не пройдет». Поэтому
современная психология и ее историческая отрасль обречены на
новый философский уровень «самоосмысления», соответствую-
щий их целям, задачам и потенциалам, тенденции повышения их
социального авторитета и общенаучного статуса.
В этой связи закономерно дискуссионное суждение. Сегодня
быть «исключительно психологом» уже невозможно. Он, «кроме
всего», должен быть и философом, и методологом, и аналитиком,
и исследователем, и учителем, и практиком. Он должен знать о
мирах объективных и субъективных «если не все», то многое; уметь
«если не все», то к этому стремиться. Для современного психолога
это не популярная прихоть или фантазии, а … «профессия такая».
Именно таким представляет сегодня обычный человек образ про-
фессионального психолога.
В продолжение актуализации философского осмысления исто-
рической отрасли психологии напомним очевидное: мир фило-
софии безграничен и невероятно интересен; мир психологии с его
1 Подробнее см.: Катков К.Л. Науки о психике. Завершение эпохи кри-
зиса. – М., 2024; Завершнева Е.Ю. Проблема кризиса в современной
психологии: историко-методологическое исследование: Дис… канд. пси-
хол. наук. – М., 2004; Шадрин Н.С. Кризис современной психологии и
проблема интеграции и взаимодействия академической психологии и ее
прикладных отраслей // Методология современной психологии. – 2015.
№ 5; Слепко Ю.Н. Некоторые пути преодоления методологического кри-
зиса психологии в XXI веке // Там же.
9
потрясающей историей не менее изящен и увлекателен. Философия
истории психологии в этих мирах и сочетаниях может оказаться
весьма полезной, интересной и любопытной «гремучей смесью».
В данном контексте констатируем исторический факт: ведущая
роль в осмыслении психологического знания на всех этапах его
эволюции принадлежала философии. Как устойчивая тенденция,
историко-психологические наработки и проблематика были, есть
и будут оставаться актуальными и приоритетными объектами фило-
софского анализа. Для данных утверждений существуют достаточные
научно-исторические основания.
Первое. Философия позволяет, погрузившись в «неисчерпаемый
океан» психологической мысли, «пропустить через себя» – по-
чувствовать и понять его причинность, содержание, своеобразие
и направленность развития. «Мир психологии» формировался
тысячелетиями, и процесс его становления носит не случайный и не
аномальный, а закономерный характер, основанный на огромной
совокупности детерминант эволюции цивилизации, общественного
сознания и жизнедеятельности человека. В этой «эволюционной
картине» история психологии была, есть и будет оставаться доми-
нантной формой представления знаний о душе, психике и сознании
всех исторических эпох.
«Мир психологии» имеет довольно сложный для обыденного
восприятия язык, системы законов, принципов, категорий и поня-
тий, включает в себя огромную совокупность взглядов, концепций
и теорий, идей и подходов, выдвинутых мыслителями различных
эпох и народов. Чтобы не только ориентироваться в этом огромном
и сложном информационном пространстве, но и осмыслить его,
необходим инструментарий – соответствующая этой задаче реф-
лексивная область знания, каковой является философия.
В данном контексте философское восприятие и осмысление
истории психологии представляется неотъемлемым атрибутом и
одним из основных критериев научности познавательной деятель-
ности, безусловной нормой профессиональной зрелости и компе-
тенции психологов.
Второе. Философский уровень осмысления психологии и ее
исторической отрасли способствует формированию культуры «кри-
тического мышления» как базиса познавательной и практической
деятельности ученых и исследователей. «Критическое мышление, –
по определению Ф. Бэкона, – это желание искать, терпение к со-
мнению, любовь к размышлениям, неспешность в утверждениях».
Предисловие
10
Следование диалектическому стилю отражения реальности путем
разрешения выявленных противоречий в противовес апологетике
«правильной» науки, чего, признаем, недоставало целым поколе-
ниям гуманитариев, должно стать научным стандартом психологии
и ее истории1.
Заметим, что мыслители Античности первыми отразили крити-
ческую суть научного мышления: «Ничего не принимать на веру, а
искать истину и сомневаться в очевидном»2. Актуальность данной
нормы дополняется наличием в истории и философии науки це-
лой совокупности методологических средств, концепций анализа
познавательных процессов, которые предполагают критическую
самооценку и систематическое переосмысление достигнутого пси-
хологического знания. Как подметил Б. Рассел, «полезно время от
времени ставить знак вопроса на вещах, которые тебе давно пред-
ставляются несомненными».
Третье. Историю психологии на протяжении тысячелетий тво-
рили философы. По ряду известных причин психологи прошлого
иногда «избегали» данный факт, на который обращают внимание со-
временные методологи. Этот «комплекс подчиненного положения»
проявился в «корпоративном» суждении: то физика, то математика,
то еще «что-то», а теперь и философия «нарисовалась» быть предте-
чей психологии. В этой связи заметим: иметь таких «прародителей»
психологии должно быть ответственно и почетно. Достаточно от-
крыть книги Платона, Аристотеля, Ф. Бэкона, Дж. Локка, Г. Лейб-
ница, И. Канта, Г. Гегеля, других выдающихся философов, чтобы
очередной раз убедиться в том, что концепции души в их учениях и
научном мировоззрении занимали приоритетное место3.
1 См. по данной проблеме: Альберт Х. Трактат о критическом разуме. –
М., 2003; Сорина Г.В. Критическое мышление: история и современный
статус // Вест. Моск. ун-та. Серия 7. Философия. – 2003. № 6; Халперн Д.
Психология критического мышления. – СПб., 2000; и др.
2 Весьма популярна современная оценка учеными философии науки
П. Фейерабенда как развитие теории познания стоиков. Подробнее см.:
Гусев Д.А. Античный скептицизм и современная философия науки // Пре-
подаватель. XXI век. – 2014. № 3. Ч. 2.
3 Подробнее см.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях
знаменитых философов. – М., 1979; Представление древних философов
о душе. Психология сознания // Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую
психологию. – М., 1996; Ждан А.Н. История психологии: от античности
к современности. Введение. – М., 1997; Васильев В.В. Философская пси-
хология в эпоху Просвещения. – М., 2010.
11
Только один исторический пример из зародившейся более двух
тысячелетий назад философской школы стоицизма. Основные
вопросы, которые интересовали стоиков и их последователей, со-
держали глубоко психологический смысл: как достичь счастья через
волю и разум; как совладать с эмоциями, страстями и страданиями;
как принять существующий мир?1
Позиционирование стоицизма как «философии трудных времен»
во все эпохи сближало стоицизм с «психологией жизни». Очевидным
явилось признание факта: в эволюции человечества психологиче-
ские проблемы, по сути, идентичны. Таковые являются следствием
«вечных» цивилизационных детерминант, определяемых поняти-
ями «турбулентность», «спонтанность», «неопределенность» и т.д.
В ХХ–XXI веках стоицизм приобрел новое дыхание. Сегодня
установки стоицизма – смелость, мужество, надежность и реши-
тельность в жизненных испытаниях, признаны в качестве канонов
ряда экстремальных профессий и целями их психологического
обеспечения.
По часто цитируемой оценке С.Л. Рубинштейна, «оформившаяся
как самостоятельная наука в середине XIX в. психология по своим
философским основам была наукой XVIII века. Не Г. Фехнер и
В. Вундт – эклектики и эпигоны философии, а великие философы
XVII и XVIII вв. определили ее методологические основы»2. Как
закономерность, психология на протяжении всей своей истории
«продвигалась» вместе с научным мировоззрением, отражаемым
сначала античной физикой и метафизикой, позднее – философией
и естествознанием последующих эпох. Заметим: значительная часть
работ основателя психологии В. Вундта посвящена философской
проблематике3. Психология всегда была значима для философии.
Возникновение экспериментальной психологии совпало по времени
с господством психологизма в философии4.
1 См.: Фрагменты ранних стоиков. В 3 т. – М., 1998, 1999, 2002; Степано-
ва А.С. Философия древней Стои. – СПб., 1995.
2 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. Т. 1. – М., 1989. – С. 73.
3 См. соч. В. Вундта: «Логика» (1880–1883); «Этика: исследование фактов и
законов моральной жизни» (1886); «Система философии» (1889); «Зачатки
философии и философия первобытных народов. Введение (общая история
философии: истоки. Восточная, исламская, еврейская философия» (1901);
«Введение в философию» (1903); «Душа и мозг» (1909); «О наивном и кри-
тическом реализме» (1910); «Миф и религия» (1913); «Мировая катастрофа
и немецкая философия» (1922); «Метафизика» (сб. статей, изд. 2021).
4 Цит. по: Огурцов А.П. Введение. Психология и новые идеалы научности
(материалы круглого стола) // Вопросы философии. – 1993. № 5.
Предисловие
12
Уже в новейшем времени, по оценке Д.В. Иванова, «исследо-
вания психического приобрели такую популярность, что многие
аналитические философы стали рассматривать философию со-
знания в качестве ведущей философской дисциплины»1. С другой
стороны, историко-психологические знания во все времена вы-
ступали источниковой базой и теоретической основой философии
души и сознания, их многочисленных концепций. Философы с
древних времен понимали, что знания о душе, в целом психоло-
гия – ключ к постижению мира. Аристотель считал, что «познание
души способствует познанию всякой истины, особенно позна-
нию природы». В Новое время Р. Декарт в назидание потомкам
утверждал: «Кто сумеет все рассказать о себе, опишет всю Все-
ленную».
Четвертое. Первыми историками психологии выступили фило-
софы Античности, Средневековья и последующих времен. Их уро-
вень компетентности, представления и осмысления эволюции
психологического знания до настоящего времени являются ярким
образцом и примером для подражания2.
Другая закономерность – выдающиеся ученые приходили к
философскому осмыслению психологии и ее истории «на верши-
не» своего творческого пути и научной зрелости. Философское
образование и свободный стиль мышления поколений автори-
тетных советских психологов были если не нормой, то далеко не
исключением. Для «официальной психологии» это не только было
«не обязательным», но и порой вредило научной биографии ис-
следователей, ибо «философствовать» разрешалось исключительно
1 См.: Иванов Д.В. Трудная проблема сознания в контексте философии
сознания XX века // Философские проблемы информационных техноло-
гий и киберпространства. – 2018. № 2 (15); см. также: Серл Дж. Открывая
сознание заново. – М., 2002; Кошина А.А. Специфика постановки про-
блемы онтологического статуса сознания в современной аналитической
философии // Изв. высш. учеб. заведений. Северо-Кавказский регион.
Общественные науки. – 2013. № 5; Маслянка Ю.В. Современная филосо-
фия сознания, природа субъективности и феномен смысла // Изв. высш.
учеб. заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2011.
№ 1 (17).
2 См.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых
философов. 2-е изд. – М., 1986; Гегель Г.В. Лекции по истории философии.
В 2 кн. – СПб., 1993–1994; Плеханов Г.В. Философия истории. – М., 1989;
Дессуар М. Очерк истории психологии. – СПб., 1912; Деборин А. Книга
для чтения по истории философии. – М., 1924; и др.
13
в «марксистском тренде». Но, несмотря на идеологические огра-
ничения, большинство отечественных ученых проникалось идеей
о том, что без философского осмысления процессов эволюции и
функционирования психологического знания конструктивное раз-
витие современной и будущей психологии невозможны.
Пятое. «Наука, лишенная адекватной себе философии, теряет
свои корни в культуре, – размышлял А. Уайтхед, – а философия,
оторванная от науки, превращается в субъективистский ирра-
ционализм». История подтверждает, что любая научная система
в качестве базовой основы предполагает наличие рефлексивных
средств, позволяющих перманентно отражать состояние, проблемы
и перспективы таковой.
С зарождения психологии в качестве данного средства выступали
ее история и методология. Философия психологии по историче-
ским меркам совсем молодая «новация»1. Из-за необоснованной
ревности к «матери всех наук» понятие «философия психологии»,
за редким исключением, употребляется довольно редко. Однако
современные попытки утверждения новой отрасли – философии
психологии, весьма конструктивны и эвристичны2.
Появление философского направления в психологии – далеко
не случайность. Как отмечают историки, ощущение, что психологии
«постоянно чего-то не хватало», преследовало это науку на протя-
жении всей ее эволюции. Причина этому очевидна: философский
уровень осмысления предполагает свободу размышлений, меньше
ограничений в форматах всевозможных стандартов, в чем во все
времена нуждалась психология.
Шестое. Философия как «эпоха, схваченная в мысли» (Г. Ге-
гель), сопровождала и продолжает обобщать процесс эволюции
человеческой цивилизации, ее культуры и науки. Этот фило-
софский образ реальности включает в качестве «авторитетного
элемента» психологическое знание, представленное во всех без
исключения формах общественного сознания. Без «психологиче-
1 Первая в отечественной психологи книга с названием «Философия психо-
логии» появилась в 1994 году. См.: Леонтьев А.Н. Философия психологии:
из научного наследия / Под ред. А.А. Леонтьева, Д.А. Леонтьева. – М., 1994.
2 См.: Мазилов В.А. История психологии и философия психологии: не-
обходимо взаимодействие // Вест. Вятского гос гум. ун-та. – 2014. № 3;
Витгенштейн Л. Заметки о философии психологии. – М., 2001; Майоро-
ва О.В. Функциональное значение философии психологии // Личность,
семья и общество: вопросы педагогики и психологии. – 2014. Вып. 38.
Подробнее см. II главу настоящей монографии.
Предисловие
14
ского наполнения» науки оставались бы скучными – «бездушными
памятниками» истории1. Данные обстоятельства генерировали в
психологии социальные, аксиологические, смыслообразующие,
праксеологические и иные подходы и концепции как бы «в по-
мощь» самым различным наукам и дисциплинам.
Седьмое. В противовес теориям абсолютизации «бытия, определя-
ющего сознание», заметим: не «предпосылки» в виде всевозможных
«следствий» (революций, социальных катастроф и коллизий), а «миры
идей», по К. Попперу, – эволюция общественного сознания, мышле-
ния личности и социумов как отражение их осознанных потребностей
и интересов, стремления к прогрессу, реализации своего потенциала
и достойному будущему являлись определяющими в формировании
научного, в т.ч. психологического, знания в конкретных исторических
периодах.
Данный подход альтернативен стандартам классической науки и
догматическим формам диалектического материализма с их жест-
ко детерминированной «субъектно-объектной парадигмой». Как
подметил А.В. Койре, «великие научные революции всегда опре-
делялись катастрофой или изменением философских концепций»2.
В этом же контексте рассуждал С.Л. Рубинштейн в работе «Бытие
и сознание. Человек и мир»3.
По данному поводу важно подчеркнуть, что причинно-след-
ственные связи в обозначенных процессах, их иерархия и значи-
мость в представлениях различных научных школ неоднозначны,
требуют учета огромной совокупности факторов в конкретной
исторической ситуации. «Фронт работы» и выбор мировоззрен-
ческих приоритетов для философии наук, философии истории,
философии психологии и ее исторической отрасли здесь весьма
перспективны.
Восьмое. Своими мировоззренческими, методологическими и
теоретическими средствами и потенциалами философия тради-
ционно «пронизывала» психологию. Философия как форма обще-
ственного сознания объединила в своем содержании законы бытия
1 Подробнее см.: Аллахвердян А.Г., Мошкова Г.Ю., Юревич А.В., Яро-
шевский М.Г. Психология науки. От механизмов научного мышления до
управления творческим процессом. – М., 2022; Щавелев С.П. Этика и
психология науки. Дополнительные главы курса истории и философии
науки. – М., 2021.
2 См.: Койре А. Очерки истории философской мысли. – М., 1985.
3 См.: Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. – М., 1973.
15
и мышления, системы идей, принципов, понятий, категорий и
общенаучных методов, огромный спектр парадигм, типов раци-
ональности, теоретических и эмпирических подходов, которыми
«насыщалась» и продолжает «заряжаться» психология.
В данной связи закономерно, что наукой, способной предоста-
вить психологии средства для развития и разрешения ее проблем, яв-
ляется философия. Нет другой современной области знания, кроме
философии, которая могла бы претендовать на рефлексивную, инте-
грирующую и синтезирующую роли для психологии и определение
ее мировоззренческого и общенаучного фундамента. В раскрытии
данной позиции в середине прошлого столетия философские основы
психологии были отражены в трудах С.Л. Рубинштейна1.
Как аргумент в психологических отраслях изначально использу-
ются в качестве универсальных философские категории и понятия:
бытие, материя, сознание, мышление, реальность, развитие, эволю-
ция, явление, процесс, сущность, качество, количество, свойство,
мера, причина, следствие, познание, связь, пространство, время,
форма, содержание, структура, единичное, особенное, общее, не-
обходимое, случайное, возможность, действительность, противо-
речие», отрицание и т.д. Приведенным далеко не полным перечнем
терминологических «заимствований» у философии психология не
ограничится.
Философия науки и истории, онтология, гносеология, эпи-
стемология, философская антропология, социальная филосо-
фия, праксиология, аксиология, этика, эстетика и т.д. обладают
оригинальным «понятийным каркасом», который используется
современной психологией и ее исторической отраслью. Темпами
роста и многообразием поражает спектр категориальных новаций
XXI века, на которые будет вынуждена реагировать психология2.
Девятое. Особая роль в эволюции психологии принадлежит
базовому разделу философии – логике. Данная область знания
изначально включалась в состав античной философии в качестве
основной дисциплины наряду с физикой, математикой, этикой
и риторикой. По Дж. Локку, исходя из структуры, потенциала и
1 См., например: Рубинштейн С.Л. О философских основах психологии //
Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М., 1973. – С. 47–67.
2 См. о разработке понятий «нравственное усиление», «принцип проак-
тивности», «антропоцен», «субстрат-автономная личность«, «дивиденды
долговечности«, «репрессивная десублимация«, «эффективный альтруизм«,
«игрофикация» и т.п.
Предисловие
16
проблематики, высокой значимости, логика является «анатомией
мышления» – формально-логической основой научного познания
и отражения его итогов1. Логика, согласно Г. Лейбницу, – наука,
которая учит другие науки методу открытия и доказательства всех
следствий, вытекающих из заданных посылок. По его оценке,
логика «есть одно из прекраснейших и даже важнейших открытий
человеческого духа»2. По утверждению А. Уайтхеда, «логика – более
фундаментальная дисциплина, чем математика, и вся математика
строится на «уточненных» началах формальной логики».
Без логики невозможна реконструкция истории3. Исследователь,
как правило, не располагает завершенной и достоверной инфор-
мацией о прошлом, которая не нуждалась бы в дальнейшей рацио-
нальной обработке4. Как нормативная наука о законах и принципах
мышления, формах, способах и приемах интеллектуальной деятель-
ности, логика в свое «поле» в самой обобщенной форме включает:
логические законы; концепции понятий, определений, суждений,
умозаключений, гипотез, индукции и дедукции; логические кате-
гории и символику; аргументацию, обоснование и доказательства,
в т.ч. логические правила и опровержения, логические «ловушки»,
ошибки, парадоксы и т.д.; способы объяснения и понимания; ис-
кусство убеждения; дескриптивизм и прескриптивизм и т.д. Среди
многочисленных видов логики – классическая, неклассическая,
математическая, интуиционистская, паранепротиворечивая,
многозначные, конструктивные, модальные, положительные,
логическая прагматика и семантика и др.
В нашей стране до середины 1950-х годов логика занимала
авторитетное место в образовательных системах. Достаточно об-
ратиться к «Учебнику логики» Г.И. Челпанова, который был в свое
время отмечен премией Петра Великого, до 1917 года выдержал
девять изданий, выпущен в сокращенном виде в 1946 году после
1 Подробнее см.: Гетманова А.Д. Учебник логики: Учебник. – 8-е изд.,
перераб. – М., 2011; Ивин А.А. Современная логика. – М., 2022; Хомен-
ко И.В. Логика. – М., 2023; Асмус В.Ф. Логика. – М., 2024; Васюков В.Л.
Категорная логика. – М., 2024; Светлов В.А. Логика. Современный курс:
Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2024; и др.
2 Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разуме. – М.-Л., 1936. – С. 423.
3 См., например: Трельч Э. Историзм и его проблемы: логическая проблема
философии истории. – М., 1904.
4 Подробнее см.: Черняк В.С. Проблема теоретического и эмпирического
в методологии историко-научных исследований // Методологические про-
блемы историко-научных исследований. – М., 1982.
17
введения логики и психологии в средней школе, получив название
«сталинский»1.
В данном контексте сегодня логика как философская дисципли-
на должна восстановить свой былой высокий статус в психологиче-
ских науках, ее исследовательских, рефлексивных, аналитических,
практических и образовательных сферах как фундаментальное
средство достижения, представления и реализации научных ре-
зультатов. История учит нас тому, что, по выражению «главного
защитника науки в ХIХ веке» Т. Хаксли, «наука – это беспощадная
к ошибкам логика».
Десятое. В качестве «обратной стороны» связи философии и
истории психологии, обратим внимание, ничто так не губительно
для любой науки, как низведение ее содержания до предельно
широких абстракций, утрата в философских обобщениях границ
собственной предметности. Избыточная и механическая экстра-
поляция арсеналов рефлексивных отраслей на прикладные науки,
их исследовательские и практические компоненты приводит к
негативным последствиям – потере достоверности, определен-
ности и обоснованности знаний, организационным, социальным,
психологическим, собственно научным и иным издержкам.
В результате «удобного» использования излишней терминоло-
гии, «вольной» подгонки под абстрактные рационализированные
модели и конструкции итогов психологических исследований те-
ряется их самое ценное качество – научность. Более того, иногда
применение методологических и теоретических основ «старших
наук» рассматривается предпосылкой или аргументом безусловной
истинности психологических концепций, критерием «теоретиче-
ской зрелости» их авторов, что, наряду со ссылкой на «научные
авторитеты», является распространенной ошибкой научного до-
казательства.
О двух крайностях, которых «очень трудно избежать, – тупоумия,
если замкнуться в своей специальности, и неосновательности, если
выйти из нее», предупреждал И. Гёте. В данном контексте пере-
оценка потенциала философии для психологии и ее исторической
отрасли может приводить к не меньшим издержкам и негативным
последствиям, чем их недооценка.
Способами разрешения обозначенных проблем, выбора основ
и ориентиров философии истории психологии могут быть, во-
1 См.: Челпанов Г.И. Учебник логики. – М., 1908 (2024).
Предисловие
18
первых, реализация в ее содержании общенаучных принципов
разумности, очевидности, соразмерности, достаточного основа-
ния, соотносительности, оптимальности и т.д.; во-вторых, опре-
деление, чем и как философия может оказать помощь психологии
в решении ее задач, проблем «из прошлого», настоящего и буду-
щего. Попытке ответа на данный вопрос отведена отдельная глава
книги.
Одиннадцатое. В.И. Вернадский предложил идею осмысления
истории науки как становления и развития научного мировоззрения.
Данная идея для истории психологии, впрочем, как и для истории
«большой науки», более чем актуальна. В данной связи в фило-
софском осмыслении истории психологии становится очевидным
и весьма значимым анализ проявления в ее основах и содержании
эволюции типов научной рациональности, парадигм, проблем,
идеалов и стандартов, в целом психологического знания. Данный
контекст определил содержание и структуру монографии.
Для ответа на очевидные вопросы о новой области знания –
философии истории психологии, обратим внимание, что пред-
ложенная тема монографии постановочная, требующая изучения
и осмысления. Вместе с тем заметим, что в этой «новации» прин-
ципиально нового ничего нет. Выделение философии истории
психологии является всего лишь очередной попыткой актуализации
того, что делали ученые на протяжении всей эволюции психологи-
ческого знания. «Философское обеспечение» истории психологии
было и останется важнейшим средством и фактором ее функцио-
нирования – «научного бытия». Несомненно, что признание или
отрицание философии истории психологии как самостоятельной
дисциплины, раздела, отрасли философии психологии или истории
психологии – выбор профессионалов: ученых, педагогов, исследо-
вателей и практиков.
Отметим, что настоящая работа является продолжением пре-
дыдущей монографии «История психологии: эволюция основ»1.
Некоторые ее материалы продолжены, дополнены и развиты в на-
стоящем издании. Для удобства восприятия информации делается
допущение – рассуждения о философии истории психологии как
разделе или научной дисциплине «на стадии становления» осущест-
вляются в будущем или настоящем временах.
1 См.: Помогайбин В.Н. История психология: эволюция основ. – М., 2013;
второе издание, переработанное и дополненное. – 2024 г.
19
По формальному признаку – объему текста в главах обращалось
большее внимание на разработки науковедения, истории и фило-
софии науки, на взгляд автора, недостаточно представляемые при
методологическом анализе и в целом осмыслении истории психо-
логии. В этой связи следует подчеркнуть, что многие из отраженных
рациональных конструкций – идеи, принципы, подходы, идеалы,
стандарты, парадигмы, концепции, теории, являются средствами
методологии науки, без которых существование рефлексивных от-
раслей современной психологии весьма проблематично.
Структура книги раскрывает основы, проблематику и компо-
ненты философии истории психологии, не претендуя на их полное,
тем более исчерпывающее отражение. Как следствие, материалы
в монографии представлены исходя двух принципов: исключения
его избыточности и достаточности для формирования первич-
ного образа философии истории психологии. Чтобы исключить
претензию на большее, название монографии дополнено словом
«Введение» (хотя было бы адекватнее и предпочтительнее – «По-
пытка введения»). По замыслу автора, работа может явиться пусть
незначительным и робким, но все-таки шагом для философии
истории психологии в определении «своего поля» на бескрайних
просторах психологической науки.
В завершение предисловия автор выражает признательность
доктору психологических наук, профессору А.Я. Анцупову и док-
тору философских наук В.И. Аршинову за высокопрофессиональ-
ное отношение и неформальное участие в подготовке настоящей
монографии.
Искренняя благодарность – директору Института стратегий
развития П.А. Вернику за многолетнюю поддержку актуальных и
весьма сложных научных направлений по осмыслению истории
науки, настоящего и будущего самых различных сфер жизнедея-
тельности общества, а также издание настоящей книги.
I. ДЕТЕРМИНАНТЫ ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ
Становление любой научной отрасли предполагает наличие
причин и предпосылок, спектр которых включает социальные,
культурные, духовно-нравственные, личностные, собственно на-
учные и иные детерминанты. Определение их роли и содержания
является одним из основных элементов и способов философского
анализа процессов зарождения и эволюции наук. Данные установ-
ки в полной мере реализовались в изучении истории психологии,
развитие которой обусловлено целым рядом ее «движущих сил»,
оснований и обстоятельств. В отечественной истории психологии
«внутренняя» и «внешняя», в т.ч. социокультурная, детерминация
развития психологической науки – темы традиционные, популяр-
ные и разработанные.
В энциклопедиях и словарях понятие «детерминанта» (от греч.
determi-nans, -ntis – определяющий) трактуется как «доминиру-
ющее или обусловливающее что-либо». Близкими по значению
терминами к данному понятию являются: причины, условия, фак-
торы, средства, обстоятельства, тенденции, движущие силы и др.
В рамках концепций детерминации выделяются ее виды: условная,
функциональная, системная, управляющая и др.; явления и про-
цессы рассматриваются через призму категорий «причинность»,
«закономерность», «необходимость», «случайность» и т.д.
Понятие «детерминанта» употребляется в языкознании, мате-
матике, кибернетике, биологии, образовании, социологии, куль-
турологи, экономике, праве и иных науках, в прогнозировании
и моделировании информационных, коммуникативных, произ-
водственных, технологических и иных процессов, факторных и
иных системах1. Существенный вклад в концепции детерминации
процессов внесены кибернетикой, в рамках которой сформулиро-
ваны законы и принципы необходимого разнообразия, внешнего
дополнения, обратной связи, выбора решения, декомпозиции,
иерархии управления, эмерджентности.
В гуманитарных областях знания применяются словосочета-
ния «общенаучные детерминанты», «социальные детерминанты»,
1 См. работы: В.Г. Иванова, В.М. Козырева, М.А. Абрамовой, В.Г. Костюк,
С.П. Виноградова, Н. Ю. Шведовой, Ю.В. Фоменко, И.И. Баклановой,
М.Я. Андрияновой, А.Г. Масловской, Д.Ю. Бобошко, В.С. Бондаренко и др.
21
«социокультурные детерминанты», «исторические детерминан-
ты», «духовно-нравственные детерминанты» и т.п.1 Таковые в
совокупности могут рассматриваться как «многогранный фон»
любого эволюционного процесса, его фрагментов или этапов.
Многофункциональность, универсальность и глубокое содер-
жание понятия «детерминанта» позволяет использовать его в
историко-психологической науке как предпочтительное по от-
ношению к другим однородным терминам.
Наряду с выделенными выше в самом обобщенном виде по раз-
личным основаниям детерминанты эволюции психологии могут
быть: объективные и субъективные; материальные и идеальные;
ситуативные и процессуальные; индивидуальные, личностные и
групповые; психологические и коррелятивные; профессиональные
и квалифицирующие; глобальные, цивилизационные и т.п. Тако-
вые отражают зависимости процесса психологического познания,
определяемого: уровнем научного и иных форм общественного
сознания; состоянием и потенциалом науки; научной картиной
мира; социальными (в широком контексте) условиями и факторами
жизнедеятельности общества, зрелостью и развитостью его демо-
кратических основ и институтов; личностными характеристиками
создателей, лидеров и представителей психологических школ и
направлений, авторов их теорий и концепций, моделей, программ,
исследовательских и иных средств.
В истории психологии реализуются два подхода к анализу
детерминант ее эволюции: внутренний, обозначаемый термином
«интернализм», и внешний, определяемый как «экстернализм».
Первый подход предполагает игнорирование «вненаучных» факто-
ров, утверждает автономность, т.н. чистоту развития и содержания
научного знания, определяемого в истории науки «социокультур-
ной автономией». Крайности данной позиции заключаются в двух
«полюсах»: либо абсолютная автономия науки, либо ее полная
детерминация социальной средой, ведущая к радикальной отно-
сительности – релятивизму научного познания. Закономерным
становится основной вопрос «социокультурной автономии» о гра-
ницах, глубине и формах воздействия внешних условий и факторов
на науку и, что не менее важно, разумности и целесообразности ее
«абсолютной научной стерильности».
1 См. работы Г.М. Грехневой, И.В. Ситко, Л.В. Штылевой, Л.В. Быкасовой,
В.В. Подберезного, М.С. Ананьевой и др.
I. Детерминанты истории психологии
22
Как следствие, представители интернализма предлагают в ка-
честве «движущих сил» эволюции психологии рассматривать ее
исключительно собственный потенциал, который реализуется в
разрешении комплекса внутренних противоречий как источников
развития знания и основ разрешения научных проблем. Их анализу,
а также описанию социокультурной автономии как далеко не одно-
значной нормы идеала научности в психологии будут посвящены
отдельные фрагменты монографии.
Сторонники экстернализма считают недопустимым исключение
воздействия на науку внешних факторов. История психологии
в данном контексте рассматривается производным элементом
эволюции «большой науки», общества и цивилизации со всеми их
преимуществами и изъянами, достоинствами и пороками. Данный
подход разделяется большинством современных историков и мето-
дологов психологии, специалистов философии науки.
В совокупности внешних детерминант развития психологиче-
ского знания учеными выделяются экономические, социальные,
культурные, технологические, социально-психологические, ду-
ховные и другие составляющие. Формы их анализа и определения,
типологизация, классификация и структурирование зависят от
исходных установок проведения этих формально-логических про-
цедур. В качестве таковых могут быть мировоззренческое, цивили-
зационное, формационное, эпистемологическое, парадигмальное,
проблемное, функциональное, отраслевое и другие основания.
В реализации экстерналистского подхода к эволюции психо-
логического знания следует учитывать особенности его прояв-
ления.
Во-первых, наличие «грубой» – упрощенной или прямолинейной
формы экстернализма, при котором социальные, идеологические
и другие внешние детерминанты буквально предопределяют со-
держание научно-исследовательской деятельности и ее итоги. При
этом сценарии наука развивается не по модели «на опережение»,
а «по отклонениям» – достигнутым, далеко не всегда позитивным
результатам с ориентацией исключительно на исполнение запро-
сов конкретных социальных институтов, их «заказов» и интересов.
Разумеется, такой экстернализм упрощает и примитивизирует
взаимоотношения науки и других сфер жизнедеятельности обще-
ства. По оценке С.А. Лебедева, данная разновидность детермина-
ции науки уподобляется ламаркизму и «лысенковщине». История
психологии от древности до наших дней представляет немало
23
примеров волюнтаристских, конъюнктурных и иных ложных век-
торов исследования психики и сознания со стороны клерикальных,
государственных, политических, псевдонаучных и иных структур,
не имеющих к науке никакого отношения.
Во-вторых, возрастание роли внешних детерминант в револю-
ционные или активные – «пиковые» периоды эволюции социумов.
Новые вызовы и условия, новые производства и технологии, новое
общество традиционно «требуют» новой науки1. Без социально-
экономической, иной ресурсной «подпитки» и поддержки «старая
наука» становится беззащитной перед вызовами эпохи, которые
могут быть как прогрессивны, так и деструктивны. Результатом
цивилизационных бифуркаций становится потребность в ликви-
дации или обновлении господствующих научных парадигм, фор-
мировании новых методологических основ, идеалов, ориентиров
и стандартов научного познания.
Регулярно провозглашаемые кризисы научного мировоззрения,
не исключая психологии, лишь отражают неудовлетворенность про-
фессионального сообщества состоянием науки, ее невозможностью
«здесь и сейчас» адекватно ответить на приоритеты конкретных
эпох, объяснить или создать новую научную картину мира, в ко-
торой было бы «всем все понятно». Внешние в широком смысле
детерминанты в данном аспекте являются базовыми факторами
генезиса и эволюции научного знания.
В оценке выделенных подходов истина находится «где-то по-
середине». Психология в своем развитии «обречена» на зависи-
мость от совокупности как внутренних, так и внешних условий
и факторов. Без знания, осмысления и учета этих детерминант
адекватное отражение и понимание причин формирования,
сущности и содержания идей, концепций и теорий, в целом эво-
люции психологии невозможно. Важно учитывать, что данные
детерминанты не только опосредуют процесс развития психо-
логии, но и определяют содержание и особенности его научной
рефлексии – философию и методологию психологии конкретного
периода. В подтверждение достаточно обратиться к монографи-
ям, словарям и учебникам по истории и методологии науки или
психологии. Вывод становится очевидным: каждая эпоха рождает
1 См., например: Потапцев И.С., Бушуева В.В., Бушуев Н.Н. Анализ
основных факторов, определяющих появление открытий и изобретений
в науке и технике // Науч. изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Наука и образо-
вание. – Апрель 2014.
I. Детерминанты истории психологии
24
«новую историю», какой ее написали или переписали современ-
ники1.
Не менее важной детерминантой в представлении прошлого
является личностный фактор. В соответствии с известным изрече-
нием, «история пишется во дворцах королей, а не на поле битвы».
По этому поводу А.В. Койре утверждал: «Историк проектирует в
историю интересы и шкалу ценностей своего времени, и только
в соответствии с идеями своего времени и своими собственными
идеями он производит свою реконструкцию. Именно поэтому
история каждый раз обновляется и ничто не меняется более бы-
стро, чем неподвижное прошлое»2. Тем самым ученый «породнил»
историю науки с историей идей. Данная точка зрения, отражающая
диалектический и динамичный характер процесса исторического
познания, представления и осмысления его итогов, противопо-
ложна «накопительной» трактовке истории науки по достаточно
широкому спектру оснований.
Во-первых, с течением времени образ прошлого изменяется по-
средством научно-исторических поисков конкретных ученых и
исследователей. Явление персонификации открытий и достиже-
ний в истории науки получило название «маркирование эпохи».
По аналогии с «эффектом наблюдателя» из квантовой механики, в
котором измерение представляется «вариантом регистрации собы-
тия», констатируем: личность мыслителя или ученого, их качества
и характеристики, установки и стереотипы определяют результаты
исторических изысканий и философских обобщений.
На данную закономерность обращал внимание Г.В. Плеханов:
«Как и всякий предмет, философия истории имела свою соб-
ственную историю. (…) В различные эпохи люди, занимавшиеся
вопросом о причинах исторического движения, различно отвечали
на этот великий вопрос. Каждая эпоха имела свою собственную
философию истории».
Во-вторых, «призма мировосприятия», через которую ученые
реконструируют и анализируют историю, определяет направления,
1 См., например: Касавин И.Т. Введение. Что мы открываем, когда пере-
писываем историю? // Рождение философии науки. Уильям Хьюэлл, круг
общения и следствия для XX века: Монография / Ред. и сост. И.Т. Касавина,
Т.Д. Соколова. – М., 2019.
2 См.: Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии фило-
софских концепций на развитие научных теорий. – М., 2003; Койре А.
От замкнутого мира к бесконечной Вселенной. – М., 2001.
25
содержание и конечный итог их исследований. Это характерно и
для потребителей знания. Историческое прошлое воспринимается
и интерпретируется в зависимости от стилей мышления и миро-
воззрения людей конкретного времени. Абсолютно «правильной»
истории, как и абсолютной научной истины, быть не может, а
поиски таковых всегда заканчивались разочарованием ученых и
осознанием их бесконечности.
В-третьих, восприятие, отражение и осмысление прошлого
в процессе эволюции науки изменяются. Современный статус
истории науки ориентирует ученого на критическое отношение ко
вчерашнему, которое должно пересматриваться каждым научным
поколением. По выражению В.И. Вернадского, «двигаясь вперед,
наука не только создает новое, но и неизбежно переоценивает
старое, пережитое». По оценке ученого, «прошлое научной мысли
рисуется нам каждый раз в совершенно иной и все новой перспек-
тиве. Каждое научное поколение открывает в прошлом новые
черты». «История научной мысли никогда не может дать закон-
ченную неизменную картину, реально передающую действитель-
ный ход событий», историк сам создает материал своего исследо-
вания1.
В-четвертых, негативной детерминантой представляется не
столько приверженность «служителей науки» конкретным «ухо-
дящим в небытие» мировоззренческим и методологическим
стереотипам и стандартам в оценке прошлого, сколько догма-
тизм и фанатизм в отношении к таковым. Подобных коллизий в
истории психологии более чем достаточно. Несколько примеров:
заимствование приемов манипулирования населением древних и
более поздних тираний психологией масс национал-социализма в
ХХ столетии; реализация «психотерапевтических методик» Ордена
тамплиеров в оккультных и масонских ритуалах Нового и Новей-
шего времен; долголетие реакционных психологических концептов
в современной эпохе и т.д.
В-пятых, негативной закономерностью истории является ан-
гажированная интерпретация ее источников, фактов и событий.
Причины искажения истории понятны и очевидны – это реали-
зация интересов «бенефициаров» от политики, религии, науки
и т.д. Например, в эволюции человечества широко известны слу-
1 Цит. по: Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. – М.,
1981. – С. 191–192.
I. Детерминанты истории психологии
26
чаи «вольного» – предвзятого толкования древних религиозных
текстов, повлиявших на ход истории народов и послуживших
причиной многовековых межконфессиональных, политических
и социальных конфликтов. «Историческая картина» науки в не
меньшей степени подвержена влиянию этой «токсичной» детер-
минанты.
В-шестых, важный аспект анализа детерминант истории науки
связан с демонстрацией избыточного и необоснованного историко-
познавательного оптимизма исследователей. В очередной раз кон-
статируем, что процесс эволюции научного знания и его результаты
по известным причинам постигнуть и осмыслить в полном объеме
пока не представляется возможным. Как следствие, иногда истори-
ки не столько вскрывают причины, сущность и содержание фактов,
сколько конструируют их следствия, деформируя наше восприя-
тие прошлого. Изучая и переписывая историю, ученые рискуют
своими изысканиями создать «эффект бабочки», т.е. в настоящем
не узнать себя1. В полной мере это относится к истории психо-
логии.
В данных контекстах необходимость осмысления и перманент-
ной диалектической трансформации «диагнозов» и понимания
прошлого психологии очевидны. Безусловно, эти реконструкции
должны осуществляться не «на чистом листе», а на основе знаний
истории психологии. Философии истории психологии в этих про-
цессах принадлежит весьма важная рефлексивная роль – анализи-
ровать и оценивать достижения и динамику истории психологии:
выделять в ее развитии позитивное и деструктивное; оберегать и
развивать прогрессивные и эвристичные начала; не позволять, что-
бы «вал новаций» захлестнул прошлые достижения и позитивные
наработки психологии.
Примером, классической иллюстрацией зависимости научных
реконструкций от мировоззренческих установок исследователя
является ряд позиций П. Дюгема в десятитомном труде «Система
мира: история космологических доктрин от Платона до Копер-
ника» (1913), в котором ученый признал законность осуждения
1 Идея «эффект бабочки» выдвинута математиком, физиком А. Пуанкаре
и развита одним из основоположников кибернетики и теории искусствен-
ного интеллекта Н. Винером. Термин «эффект бабочки» ввел в науку в
1961 году создатель теории хаоса Э. Лоренц. Ранее описание данного эф-
фекта в 1952 году в фантастическом рассказе «И грянул гром» представил
Р. Брэдбери.
27
инквизицией Г. Галилея. Точку зрения средневековой католи-
ческой церкви он считал правильной и дальновидной. Вопреки
Н. Копернику, И. Кеплеру и Г. Галилею, считавшим, что их теории
раскрывают истинную природу вещей, П. Дюгем утверждал, что
гипотезы физики являются лишь математическим искусством,
предназначенным для «спасения явлений».
В 1914 году ученый решительно выступил против теории отно-
сительности А. Эйнштейна, которая, по его оценке, «превратила
физику в настоящий хаос, где логика сбивается с пути, а здравый
смысл в испуге убегает». По иронии данные утверждения не по-
мешали П. Дюгему войти в историю науки его концепцией не-
определенности экспериментальных критериев и, как следствие,
физических теорий. Более того, он одним из первых пришел к
пониманию высокого значения истории науки в ее методологии
и теории познания.
Другой пример – из «околонаучного мракобесия»: в 1931 году по-
сле прибытия А. Эйнштейна в США Американский национально-
патриотический совет объявил ученого «немецким большевиком»,
осудив все его научные достижения. К сожалению, в истории от-
ечественной науки ХХ столетия и психологии в частности подобные
«аналоги» далеко не единичны.
Приведенные основания и примеры рассматриваются в качестве
аргументов для обоснования огромной, иногда определяющей роли
самых разнообразных детерминант в формировании динамичных
научных направлений и психологических конструкций конкретных
исторических периодов, изложенных в монографии. Опираясь
на представленные обобщения, выделим некоторые современные
детерминанты истории психологии.
Во-первых, это актуализация предыдущих и появление новых
вызовов. Их обобщение сводится к широко известному и довольно
объемному перечню. Главное в нем – ускорение «исторического
времени», динамики развития по всем параметрам жизнедеятель-
ности человека и общества. Стабильность как одна из основных
характеристик эволюции цивилизации, не исключая науку, осталась
в прошлом.
Наряду с позитивными следствиями этих особенностей раз-
личного рода катаклизмы, пандемии и конфликты провоцируют
целый спектр негативных явлений и процессов на индивидуальном
и социальном уровнях. Эта реальность заставляет психологов под
другим углом зрения, по-новому рассматривать прошлое своей
I. Детерминанты истории психологии
28
науки, ее опыт и наработки, накопленный арсенал теоретических,
исследовательских и практических средств, по-другому оценивать
и учитывать их содержание и эффективность в различные периоды
эволюции, бифуркаций и кризисов человечества.
Во-вторых, это возрастание роли аксиологических детерминант,
ценностных измерений в отношении к настоящему, прошлому и
будущему психологии. В истории науки такая постановка имеет
глубокие исторические корни и традиции, отличается многооб-
разием идей и подходов. Именно связь этики и психологии, ак-
сиологии и психологии, как утверждал А.Н. Леонтьев, фокусирует
наше внимание на «вершинных проблемах психологии». В своих
прощальных записках – «самозавещании» ученого, психология
XXI века определяется им как «ценностная этическая драматиче-
ская психология», «насквозь культурно-историческая психология»,
«наконец, это психология как социальное конструирование ми-
ров». По этому поводу образно выразился Ф. Ницше: «Не вокруг
творцов нового шума, а вокруг творцов новых ценностей враща-
ется мир».
В самом обобщенном виде возрастание роли аксиологических
детерминант в современной психологии и ее истории обусловле-
но актуализацией широкого спектра предпосылок, среди которых
выделяются: факторы единства (или его отсутствия) ценностей
личностей, групп, общества и их проявления; возможность опре-
деления и выбор приоритетов в ценностной шкале потребностей
и интересов; реализация ценностных предпочтений в утвержде-
нии гуманистических и прагматических установок; возрастание
роли ценностных ориентиров в деятельности личности и групп,
в принятии и реализации решений; зависимость формирования
ценностей от морали и нравственности, традиций, стереотипов,
социокультурных, психологических и иных феноменов; актуали-
зация аксиологического плюрализма – множества равноправных,
относительно самостоятельных ценностных систем; утверждение
новых нравственных идеалов и продолжение перманентных «цен-
ностных кризисов»; признание человека высшей ценностью в раз-
ноуровневых системах отношений и координат и т.д.
В этом далеко не полном перечне отражаются источники един-
ства и многообразия представлений о психологических взглядах,
концепциях, теориях и практиках прошлого, определения их
актуальности и ценности, моральной и нравственной зрелости
современной истории психологии.
29
В-третьих, существенным фактором эволюции психологическо-
го знания выступает динамично изменяющийся образ психологии,
который позволяет по-новому соотнести его онтологические, гно-
сеологические, теоретические, методические и иные компоненты с
прошлыми наработками. Как следствие, становятся актуальными
задачи переосмысления уже известного, открытого в истории пси-
хологии, а также продолжения поиска в ее содержании эвристи-
ческих теорий, конструктивных идей, подходов, моделей, иных
методологических «новаций».
Описанию образа психологии посвящено значительное ко-
личество трудов, в которых отражены как идентичные, так и
альтернативные позиции1. Среди выделяемых особенностей об-
разов психологии нельзя не отметить систематическое повторение
ее кризисов как следствие изменений или деструкции очередной
картины мира и в целом «большой науки»2. В данном контексте
иронична, но совершенно уместна позиция современных психо-
логов об «особой влюбленности своей науки в кризисы», без ко-
торых представить психологию весьма проблематично3. В данном
1 См. работы А.Л. Журавлева, В.А. Мазилова, А.В. Юревича, В.М. Аллах-
вердова, Т.В. Корниловой, С.Д. Смирнова, Ф.Е. Василюка, В.П. Зинчен-
ко, И.Н. Карицкого, В.П. Серкина, В.А. Кольцовой, О.Е. Баксанского,
В.М. Самойловой, В.М. Розина, В.В. Знакова, А.В. Карпова, Д.А. Ле-
онтьева, Л.Я. Дорфмана, В.А. Петровского, Е.Е. Соколовой, Г.В. Залев-
ского и др.
2 Понятия «малая наука» и «большая наука» введены в научный оборот
Д. де Солла Прайсом в книге «Малая наука, Большая наука» (1963). Ос-
новными признаками «большой науки» обозначены: формирование и
функционирование научных обществ, школ и учреждений; становление и
проявление науки как профессионального вида деятельности. Подробнее
см.: Хайтун С.Д. Кризис науки как зеркальное отражение кризиса теории
познания: кризис науки. – М., 2015; Ивлиев Ю.А. Системный кризис
науки как знак апокалипсиса // Международный журнал прикладных
и фундаментальных исследований. – 2011. № 5. С. 57–59; Сарданашви-
ли Г.А. Кризис научного познания. Взгляд физика. – М., 2015; Наука в
условиях глобализации. – М., 2009; Хорган Дж. Конец науки: взгляд на
ограниченность знания на закате Века Науки. – СПб., 2001; Гордеева И.В.
Кризис сциентизма как результат разочарования в науке. – URL: http://
www.allbest.ru/.
3 Подробнее см.: Катков А.Л. Науки о психике. Завершение эпохи кризи-
са. – М., 2024; Катков А.Л. Эпистемологический смысл психологического
кризиса // Интер.-версия проф. психотерапевтической газеты. – 2020.
Вып. 11. – URL: https://oppl.ru/cat/2020-vyipusk-11.html.
I. Детерминанты истории психологии
30
контексте психологов может «успокаивать» мысль П. Фейерабенда
о том, что «кризис в науке является периодом ее наибольшего
развития».
В-четвертых, важной детерминантой эволюции психологии
как одной из «сенситивных» областей научного знания является
ее высокая восприимчивость к новым объективным тенденциям,
основными из которых выступают: обновление мировоззренче-
ских, методологических и технологических основ научных поис-
ков; становление качественно нового уровня взаимосвязи науки с
другими областями жизнедеятельности, материальной и духовной
культуры; повышение значимости гуманистических приоритетов
в процессе научного познания; переосмысление роли и места
науки в динамично развивающемся мире; расширение, мозаич-
ность, плюрализация и вариативность основ научной деятель-
ности и т.д.
В-пятых, это современная научная картина мира, которая «вво-
дит в ступор» целое поколение исследователей, а ее постоянно
изменяющиеся характеристики находятся за гранью нашего по-
нимания1. «Древний космос» существовал тысячелетия, а в наше
время «неопровержимыми» картины Вселенной остаются не более
одного десятка лет. Закономерно, что этот интервал уже в ближай-
шем будущем будет сокращаться.
Со свершения «вероятностной революции» в науке прошло
немногим более столетия, а «материя снова исчезает», причина и
следствие, пространство и время «переплетаются». Современные
нейробиологи пришли к выводу о том, что восприятие человеком
реальности – генерируемая мозгом конструкция. Субъект позна-
ния в этих «творениях» – участник «создания реальности», центр
координат формирования картины Вселенной.
1 См. подробнее: Вонсовский С.В. Современная естественнонаучная
картина мира. – М., 2006; Клягин Н.В. Современная картина мира. – М.,
2007; Научная картина мира, вселенная, сознание. – М., 2008; Балан-
дин Р.К. От Николы Теслы до Большого взрыва. Научные мифы. – М.,
2009; Кузнецов Б.Г. Эволюция картины мира. – М., 2010; Наука и со-
циальная карта мира. К 80-летию академика В. С. Степина. – М., 2014;
Кузнецов Б.Г. Эволюция картины мира. – М., 2016; Шарф К. Ошибка
Коперника. Загадка жизни во Вселенной. – М., 2015; Минькович Т.В.
Основы информационной научной картины мира. – Чита, 2018; Хоссен-
фельдер С. Уродливая вселенная: как поиски красоты заводят физиков в
тупик. – М., 2021; и др.
31
«Наши наблюдательные способности пока не позволяют по-
нять окружающий мир», – констатирует популяризатор науки
астроном В.Г. Сурдин. Физическая картина мира непонятна даже
в общих чертах. Загадками для человека остаются квантовые и
космологические парадоксы, причины и процесс «настройки»
фундаментальных констант Вселенной, способной к устойчивости
и развитию, огромная совокупность «квазипроцессов реальности».
Сегодня формируются идеи и подходы, отражаемые невозможны-
ми для обыденного восприятия понятиями: «суперпозиция», «не-
определенность», «запутанность», «нелокальность», «туннельный
эффект», «отрицательное время» и т.д.
В этом контексте столетия назад высказался И. Гёте: «Лишь
немногим хватает воображения, чтобы постичь реальность». «Ло-
вушки» для научного мышления расставлены на каждом шагу1.
Как следствие, сегодня психология «варится» в весьма сложной и
многогранной «массе открытий» современной науки со всеми ее
пороками и преимуществами, в которой недостатки, по меткому
выражению Ф. Ларошфуко, кажутся порою «более привлекатель-
ными, чем достоинства».
К этому фактору «добавляется» историческая закономерность,
заключающаяся в постоянных, цикличных претензиях научных
сообществ к естествознанию, регулярно «извращающему» картину
мира, которая была или сейчас «всем понятна». С каждым этапом
эволюции науки открывалось новое знание, которое крушило
прежнюю конструкцию и низвергало истинность «прошлой реаль-
ности». Создатель теории относительности так прокомментировал
достижения квантовой физики: «Ощущение было такое, словно
почва ушла из-под ног и нигде не видно никакой тверди, на которой
можно было бы что-то построить».
Математическое и физикалистское «проклятья» по-новому
проявились в Новейшем времени. В ХХ и ХХI столетиях дости-
1 Например, одна из современных версий «апорий Зенона» гласит: любое
конечное число противоречит математической логике. Это признание
порождает вывод: «пространство многомерно, не имеет конечного числа
измерений и определяется лишь способом заполнения его определенной
материей и ее движением». В этом же контексте: на сегодняшний день
существует более 20 необоснованных теорий гравитации, огромное коли-
чество эмпирически недоказанных конструкций «первой и второй револю-
ций» в теории струн, их «супер-», «бозонной», F- и М-версий, концепций
суперсимметрии, многомерной Вселенной и т.п.
I. Детерминанты истории психологии
32
жения математики и физики с применением высоких технологий
революционно расширили горизонты и потенциалы научного
познания. Многовековые попытки создания «всеобъясняющей»
и объединяющей научной теории или «парадигмы всего», единой
«психологической платформы» продолжаются на новых фило-
софских, методологических, теоретических и технологических
уровнях.
Последние десятилетия заставляют нас согласиться с утвержде-
нием писателя-фантаста А. Кларка о том, что сегодня «достаточно
продвинутая технология неотличима от магии». В результате при-
менения современных технологий картины макро- и микромиров
и, как следствие, научных основ психологии стали настолько
скоротечны, что, еще не утвердившись, одни замещаются или от-
рицаются другими, новые концепции и теории опровергаются с
такой же скоростью, уверенностью, ликованием и оптимизмом,
как и формируются.
В-шестых, это экспоненциальное развитие научного знания,
которое становится общепризнанной нормой. Его достижение
становится не только научным или творческим, но и социально
значимым приоритетом: более 80% из числа ученых, живших и
ныне здравствующих на Земле, – наши современники. К началу
ХХI столетия более 5 млн ученых представляли 15 тыс. дисциплин.
Результат их деятельности – гигантский прогресс астрофизики,
космологии, физики элементарных частиц, современных от-
раслей химии, биологии, физиологии, других фундаментальных
отраслей «большой науки» и их ответвлений. Примечательна
новая «необычная» тенденция: значительное число современных
гипотез и теорий стали общепризнанными без эмпирическо-
го обоснования, принятого в классической фундаментальной
науке.
Сегодня к названиям многих сфер научного знания «приросли»
приставки: нано-, нейро-, техно-, био-, квантовая, синтетическая,
информационная и т.п. Появляются «экзотические», утвердив-
шиеся или добивающиеся научного признания отрасли: бионика,
биоэлектрохимия, квантовая хромодинамика, нейролингвистика,
астробиология, нейроинформатика, меметика, клиодинамика,
соноцитология, сеттлеретика и многие другие. К ним добавля-
ются новые неординарные междисциплинарные формы знания:
нестандартные физические, космологические, симуляционные,
ментальные, имитационные и другие модели; теории поля, струн
33
и элементарных частиц; концепции искусственного интеллек-
та, квантового вакуума, информационной сущности материи;
конструкции голографической, инфляционной, виртуальной,
креационистской, циклической, пульсирующей, параллельной,
зеркальной, горячей, плазменной, холодной, расширяющей-
ся, «замораживающейся», «схлопывающейся» и иных образов
Вселенной. Заметим: данный эклектичный перечень далек от
завершения1.
Успеть за бурным потоком научных открытий и усвоить их в
«абсолютно полном» объеме, к сожалению, суждено далеко не
всем. Причина проста и очевидна: при существующих технологи-
ях, колоссальных информационных ресурсах, с одной стороны,
и современных когнитивных возможностях, способах усвоения
знаний – с другой, жизнь человека, особенно ее деятельная часть,
для решения данной «сверхзадачи» слишком коротка.
На этой «волне» в ряде социологических источников как «закли-
нание» повторяется, что научной сферой на «фоне» вышеобозна-
ченной совокупности детерминант способны заниматься не более
6–8% населения Земли. Первая реакция на данный тезис – цитата
не из научных источников, а из кинокомедии Л. Гайдая: «Каждый
человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает,
на что он способен».
Учитывая особенности научных изысканий, их творческий, ин-
туитивный, иногда спонтанный и непредсказуемый характер, при-
веденные цифры вызывают настороженное отношение: во-первых,
зачем и кому нужны такие подсчеты; во-вторых, каковы критерии
отбраковки «неспособных»; в-третьих, потенциальная способность
и ее реализация – явления разные; в-четвертых, не отбирают ли
приведенные «выводы» у значительной части человечества право
на научный поиск? При таком подходе есть сомнение в том, что
в свое время «подающие надежды» молодые одаренные музыкан-
ты Г. Галилей, В. Гершель, К. Штумф, А. Эйнштейн, М. Планк и
многие другие нашли бы себя в этих «способных к науке» про-
1 См.: Лебедев С.А., Пискун Е.С. Научная картина мира и ее эволюция //
Гуманитарный вестник. 2021. – № 4 (90); Лебедев С.А. Основные кон-
цепции Вселенной и их философские основания // Вестник Московского
государственного областного университета. Сер. Философские науки. – 2022.
№ 2. – С. 49–60; Большое, малое и человеческий разум. Спор о физическом
мире и мире идей / С. Хокинг, Р. Пенроуз, А. Шимони, Н. Картрайт. – СПб.,
2008; Лидсей Дж. Рождение Вселенной. – M., 2005.
I. Детерминанты истории психологии
34
центах или, например, в касте научных жрецов «Города Солнца»
Т. Кампанеллы1. Карьеру подающего высокие надежды оперного
певца, позднее известного философа науки П. Фейерабенда пре-
рвала Вторая мировая война, творческий путь профессионального
гитариста А. Кейя, впоследствии автора идеи и принципов работы
персонального компьютера, – служба в армии. При этом, как зако-
номерность, многие выдающиеся открытия и их «неспособные» ав-
торы в истории науки были признаны спустя десятилетия, а порой и
столетия.
В этой связи весьма важно воспринимать научную деятельность
современных психологов – теоретиков, исследователей и практи-
ков в беспрецедентно сложной, информационно насыщенной и
динамично изменяющейся реальности как профессиональный,
неизбежный и обыденный процесс, а не обреченность или реали-
зацию «сверхспособности» личности.
Сегодня знания о комплексе постоянно изменяющихся детерми-
нант – вызовах, достижениях, проблемах и итогах научной эволюции,
адекватное восприятие и неугасающее стремление к пониманию
«неимоверно навороченной» картины мира расширяют горизонты
современной психологии, раскрывают и увеличивают потенциал ее
исторической отрасли. Вне сомнения, это знание является важней-
шей детерминантой – предпосылкой и основанием поиска ответов
на вечные вопросы человечества о душе, психике и сознании, о
целях и смысле нашего существования, о нашем будущем. И пока в
этой картине есть постоянно возникающие препятствия в открытии
тайн мироздания и человека, попытки ответов на эти вопросы будут
продолжаться бесконечно, а познаваемость мира, по утверждению
А. Эйнштейна, останется «чудом и вечной загадкой».
1 «Я знаю, – вспоминал А. Эйнштейн, – что самая большая радость в моей
жизни пришла ко мне от моей скрипки». В истории известен пример про-
фессионального музыканта Ф. Герши, в 35 лет увлекшегося астрономией
и сделавшего великие открытия: в 1781 году – планеты Уран, позднее –
двух спутников Сатурна, движения Солнечной системы в пространстве.
В 1785 году музыкант первым определил форму и параметры нашей
галактики, размеры Вселенной. Данный пример не единичен: по инфор-
мации популяризатора классической музыки М. Казиника, на 2023 год
9 из 10 нобелевских лауреатов имели музыкальное образование, 96% вла-
дели музыкальными инструментами. При всей условности данного факта
одно из средств формирования «нобелевского мышления», по его оценке,
очевидно. Изначально музыкантам – «невеждам в науке» до значимых
космологических и иных открытий было весьма далеко.
35
В качестве итоговых обобщений главы констатируем:
история психологии определяется огромной совокупностью
многообразных и разноуровневых социальных, культурных, ду-
ховно-нравственных и иных цивилизационных детерминант,
которые при любых формах и интерпретациях являются опреде-
ляющими причинами, предпосылками и основаниями развития
психологического знания;
для достижения адекватного результата в историко-психоло-
гических изысканиях необходимы знания и учет непрерывно из-
меняющихся детерминант, воздействующих на процесс эволюции
психологии. Понимание их роли и содержания является важнейшей
предпосылкой для качественного анализа и оценки психологиче-
ских взглядов, концепций и теорий различных исторических пери-
одов, условием профессионального отношения к психологическому
наследию, постоянного открытия в его рамках нового знания;
развитие психологического знания осуществляется не в «за-
крытых системах» – социальном и научном «вакууме». Под влия-
нием различного уровня «внутренних» и «внешних» детерминант
прошлого и настоящего формируются и реализуются возмож-
ности – «запас прочности» развития психологического знания,
определяются его перспективные сценарии и научные образы
будущего психологии;
детерминанты могут рассматриваться «осями координат» про-
странства, в котором зарождается и развивается научное, в т.ч.
психологическое, знание. Таковые «направляющие» обозначают
мировоззренческие, социально-культурные, научные, личност-
ные и иные аспекты анализа источников, причин и предпосылок
генезиса и развития психологических идей, взглядов, концепций
и теорий. Данное положение актуально для всестороннего учета
и философского осмысления условий и факторов, определивших
процесс эволюции психологии;
перманентное философское осмысление детерминант истории
психологии является важнейшей предпосылкой повышения ее по-
тенциала и научного статуса, значимым средством непрерывного
диалектического развития мировоззренческих, методологических,
теоретических основ и оптимизации историко-психологического
познания.
II. ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ПСИХОЛОГИИ:
ИСТОЧНИКИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ
В эволюции научного знания формирование новых школ, от-
раслей и направлений – процесс сложный, порой драматичный,
но закономерный и неизбежный1. В его осмыслении учеными
выдвинут ряд гипотез зарождения и природы наук, наиболее
известные из которых – «о случайном возникновении науки»
А. Эйнштейна – Д. Прайса; «о паранауке и науке» Дж. Нидама;
«о возникновении науки в условиях нестабильного производства»
Дж. Бернала – Р. Блэккета. Оригинальную концепцию генезиса
наук разработал М.К. Петров2.
Фундаментальные исследования зарождения и функциони-
рования научного знания проведены современными учеными3.
В многочисленных работах представлены результаты анализа
многоуровневых источников, роли социумов и культуры в проис-
хождении науки, концепции «онаучивания» общества, тезаурусной
динамики и других аспектов формирования образа науки, введено
понятие «философское науковедение»4. В ряде трудов отражены
модели цикличности эволюции науки, как правило, включающие
этапы возникновения, развития, насыщения, стагнации, упадка и
исчезновения. В происхождении наук историками подчеркивается
диалектическая связь процессов дифференциации и интеграции –
синтеза научного знания. Особое место в «процедуре» становления
наук отводится институционализации научных отраслей.
На фоне достаточно широкого перечня критериев и норм ут-
верждения новых научных сфер закономерен вопрос о соответствии
философии истории психологии весьма разнообразным «общепри-
1 Подробнее см.: Ильин В.В. Природа науки. – М., 1986.
2 См.: Петров М.К. Философские проблемы «науки о науке». Предмет
социологии науки. – М., 2006; Ерыгин А.Н. История философии и методо-
логические новации / М.К. Петрова. – М., 2013; Дидык М.А., Ерыгин А.Н.
Проблема происхождения философии в наследии / К. Петрова. – М., 2016.
3 См. труды В.С. Библера, Н.В. Мотрошиловой, А.П. Огурцова, И.Т. Ка-
савина, В.С. Степина и др.
4 См. труды В.Н. Дубровина, Ю.Р. Тищенко, С.С. Неретиной, Э.М. Мир-
ского, И.С. Дмитриева, О.А. Мурадьяна, М.А. Дидыка, А.Н. Ерыгина,
В.П. Макаренко и др.
37
нятым параметрам» науки или научной отрасли. В развитии пси-
хологии данный вопрос для становления ее ответвлений является
традиционным, а «через ответ» на него прошли все признанные
психологические отрасли.
В этой связи напомним о различии двух объектов познания:
истории психологии как научной отрасли со всеми известными
атрибутами и истории психологии как процесса эволюции психо-
логического знания. Объектно-предметные сферы, цели, средства,
ориентиры и акценты для изучения этих явлений разные, но нераз-
делимые и взаимозависимые. С одной стороны, процесс эволюции
психологических взглядов, идей, концепций и теорий является
объектом истории психологии и его философского осмысления.
С другой – история психологии как отрасль или дисциплина –
объект философского, методологического и эпистемологического
анализа, в целом науковедения.
Важнейший и необходимый этап в характеристике «новой от-
расли» – представление наук, рефлексивных областей знания и на-
правлений, потенциал которых используется философией истории
психологии. Для ее становления необходимо заимствование нара-
боток из весьма авторитетного перечня наук самых различных эпох,
включающего философию с ее фундаментальными компонентами,
всемирную историю, методологию и историю науки, эпистемологию,
психологию, философию психологии, историю психологии и целый
ряд других широко представленных в научной литературе отраслей1.
1 См.: Герье В.И. Философия истории от Августина до Гегеля. – М., 2015;
Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – СПб., 2009; Кареев Н.И.
Основные вопросы философии истории. – М., 1883; Шпет Г.Г. История как
проблема логики: критические и методологические исследования. Ч. 1. –
М., 1916; Бернгейм Э. Философия истории, ее история и задачи. – М., 1919;
Карсавин Л.П. Философия истории. – Берлин, 1923; Ясперс К. Смысл
и назначение истории. – М., 1991; Бердяев Н.А. Смысл истории. – М.,
1990; Ильин В.В. Философия истории. – М., 2003; Розов Н.С. Философия
и теория истории: пролегомены. – М., 2019; Лаппо-Данилевский А.С.
Методология истории. Ч. 1–2. – СПб., 1910–1913; Могильницкий Б.Г.
Введение в методологию истории: Учебное пособие. – М., 1987; Теория
и методология истории: Учебник и практикум для вузов. – М., 2019;
Бучило Н.Ф. История и философия науки: Учеб. пособие. – М., 2016;
Багдасарьян Н.Г. История, философия и методология науки и техники:
Учебник и практикум. – Люберцы, 2016; Гусева Е.А. Философия и история
науки: Учебник. – М., 2018; Касавин И.Т. Социальная философия науки.
Российская перспектива. – М., 2018; Никифоров А.Л. Философия и
II. Философия истории психологии: источники, определение, содержание
38
Таковые являются источником – предпосылкой, мотивом и основа-
нием становления и развития философии истории психологии – ис-
ходными мировоззренческими, методологическими, ценностными и
иными ориентирами, установками и средствами для построения сво-
его «научного каркаса». Спектр современных научных направлений,
моделей и концепций, наработки которых могут быть реализованы
философией истории психологии, постоянно расширяется1.
Определяющая роль в осмыслении истории психологии при-
надлежит философии, которая представляется не только «любовью
к мудрости», но и, как утверждал Аристотель, «наукой об истине»,
«культурой ума». По Аристиппу Киренскому, ученику Сократа,
«философия – постоянная жажда знания бытия». Утверждая
универсальный характер философии, Г. Гегель некогда удивлялся
«зрелищу народа без собственной метафизики». В этих контекстах
«золотые и серебряные века» стремления исключительно к мудрости
в прошлом. Многовековое противостояние физиков и метафизиков,
непримиримая борьба по поводу основных вопросов философии
материалистов, идеалистов, реалистов, номиналистов, агностиков
и т.д. – также «вчерашний день».
Для уяснения сути этих «противостояний» Г. Риккерт в работе
«О понятии философии» (1910) разграничил сферы: для науки это
действительность; для философии – ценности, к которым он отнес
научные законы, понятие «мир как целое». По его мнению, су-
ществуют «царства» благ – объекты действительности, в которых
история науки: Учеб. пособие. – М., 2018; Светлов В.А. Философия и
методология науки: Учеб. пособие. – М., 2019; Степин В.С. Философия и
методология науки. – М., 2015; Мартюшов Л.Н. Основы теории и мето-
дологии истории. – Екатеринбург, 2016; Коломийцев В.Ф. Методология
истории (от источника к исследованию). – М., 2001; Лекторский В.А.
Эпистемология классическая и неклассическая. – М., 2001; Эпистемология
вчера и сегодня / Отв. ред. В.А. Лекторский. – М., 2010; Микешина Л.А.
Становление эпистемологии в российской философии и социально-гума-
нитарных науках XIX–XXI веков. – СПб., 2021; Бабайцев А.Ю. Эпистемо-
логия // Центр гуманитарных технологий. URL: https://gtmarket.ru/
concepts/7119; и др.
1 Например, к концепциям современной философии и методологии науки
С.А. Лебедев предложил отнести: позитивно-диалектическую парадигму
философии науки; уровневую методологию науки; консенсуальную при-
роду научной истины; историю и теорию научного метода. См.: Лебе-
дев С.А. Философия науки: позитивно-диалектическая концепция. – М.,
2021; Лебедев С.А. Уровневая методология науки. – М., 2020; Лебедев С.А.
Структура научного знания. – СПб., 2006; Лебедев С.А. Современная
философия науки. – М., 2023.
39
выкристаллизованы ценности, и смысла. Каждое «царство» должно
«заниматься своим делом».
В ином ракурсе выделил два вида философии Б. Рассел: про-
фессиональная философия – это «что-то приближенное к науке»;
вторая – философия реальная, свойственная любому человеку.
К этому ученый добавил, что философия – это «ничья Земля»,
подвергаемая атакам со всех сторон.
Место философии в Античности – «на троне», над диалектикой,
логикой, арифметикой, геометрией, астрономией, грамматикой
и риторикой. Это была всем понятная и признанная структура
знаний, нечто похожее на древнюю «операционная систему» ми-
ровоззрения. Пройдя многовековой путь, сегодня таковая уже «не
справляется» со своими прошлыми функциями, да и с «трона»
давно низвергнута – требуются «перезагрузки»: переосмысление
целей и ориентиров, расширение основ, углубление взглядов и
концепций. Как пророчески подметил Г. Гегель, «ответ на вопросы,
которые оставляет без ответа философия, заключается в том, что
они должны быть иначе поставлены».
Х. Ортега-и-Гассет рассуждал: «Философия – это могучее стрем-
ление к прозрачности. В Греции философия сначала называлась
aletheia – разоблачение. Философия – слово, открытие бытия вещей
в полной обнаженности, слово о бытии: онтология. В отличие от
мистицизма философия стремится быть произнесенной тайной»1.
Не менее актуален потенциал философии в ее, на первый взгляд,
экзотичной функции «научной гигиены» процесса познания, очища-
ющей таковой от догматических, идеологизированных и иных устано-
вок и стереотипов. Без философского анализа и обоснования ответы
на вопросы «зачем, что, как постигается и отражается?», результаты
научных поисков зачастую не соответствуют их целевым установкам,
«зависают в неопределенности» и неадекватны реальности.
История свидетельствует: чем более фундаментальны и гло-
бальны, прагматичны и значимы для личности и общества задачи,
которые решаются наукой, тем в большей степени этот процесс
нуждается в философском осмыслении, раскрепощенном, сво-
бодном мышлении. Остальное, по Вольтеру, – «дело времени и
смелости ума». В полной мере актуальность философской рефлек-
сии распространяется на психологию и ее историческую отрасль.
Кто осознает эти очевидные истины, достигает научных целей
1 Цит. с сокр. автора по: Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М.,
1991. – С. 107.
II. Философия истории психологии: источники, определение, содержание
40
более конструктивно и профессионально, с достойным резуль-
татом.
«Человечеству пора проснуться, – призывал более трех десяти-
летий назад В.П. Зинченко. – Ему нужно бодрствующее сознание, а
не только бодрствующий мозг»1. Вне сомнений, этот направленный
в будущее призыв относился и к научному сообществу. Человек
ХХI столетия по-новому осознает, что мир – не «простая концентра-
ция» энергии и пространства во времени, а явление удивительное,
уникальное и многообразное. Благодаря этому видению утверж-
даются десятки новых направлений современной философии2.
Основной ее функцией остается поиск и обоснование законов,
принципов и итогов эволюции реальности, познания таковой во
всех ее формах и многообразии.
Не покушаясь на постановку проблемы «первичности и позна-
ваемости материи», отметим, что «вопросник» современной фило-
софии по отношению к ее более двухтысячелетнему прошлому не-
соизмеримо богаче и разнообразней3. Глубина и фундаментальность
обобщений, логическая стройность и системность обоснования, до-
1 См.: Зинченко В.П. Миры сознания и структура сознания // Вопросы
психологии. – № 2. 1991. – С. 15–36.
2 Подробнее см.: Бычковский Б.С. Современная философия: проблема
материи и энергии. – М., 2011; Канке В.А. Современная философия:
Учебник. – М., 2013; Никоненко С.В. Современная мировая философия:
Учебник для вузов. – М., 2013; Розин В.М. Традиционная и современная
философия. – М., 2014; Пржиленский В.И. Современная философия.
Интеллектуальные технологии XXI века. – М., 2029; Кононов Е. Аналити-
ческая метафизика. Тематический обзор. – М., 2022; Тюгашев Е.А. Основы
философии. – М., 2024.
3 См., например: Философия в XXI веке: социально-философские про-
блемы современной науки и техники // Материалы I Международной
научно-практической конференции. 12 мая 2023 г. – Красноярск, 2023;
Комаров С.В. Современная зарубежная философия. Некоторые онтоло-
гические концепции XXI века. – Пермь, 2021; Лазарев Ф.В. Новый взгляд
на философию ХХI века. – М., 2009; Беляев И.А. Антропологический
ландшафт современной философии // Вестник Российского философ-
ского общества. – 2021. № 3–4 (97–98). – С. 19–31; Рорти Р. Философия
и будущее // Вопросы философии. – 1994. № 6; Зотов А.Ф. Современная
западная философия. – М., 2011; Возможные миры. Семантика, онтология,
метафизика. – М., 2011; Чистов Р.С. Социальная философия в современном
мире. Стимулы философской рефлексии в начале XXI века. – Красноярск,
2015; Еникеев А.А. Актуальные философские проблемы XXI века: открытое
будущее человечества / А.А. Еникеев, В.И. Скрипко // Молодой ученый. –
2016. № 12 (116); и др.
41
ступность, открытость и другие достоинства философии для истории
психологии интересны не сами по себе, а перманентными попытками
ответов на очевидные для любой науки вопросы о мировоззренческих
установках и методологических стандартах, уроках и приоритетах,
перспективах и ценностях знания. В их истолковании в философии
обнаружилась альтернативность двух известных парадигм.
Первая была выдвинута И. Кантом и предполагала движение
от вопроса «как наука возможна» к ответу «как она реально есть».
В близком к данному дискурсу обосновывал die Idee an und für sich –
«идею в себе и для себя» в «Науке логики» Г. Гегель1. Вторая, с проти-
воположным вектором – О. Контом: от вопроса, как наука «реально
есть», к ответу, «как она возможна». В отличие от «кантовского под-
хода» О. Конт определяет науку как «некую реальность» – то, что
существует «само по себе, независимо от нашего сознания». На этой
основе выявляются закономерности ее развития. Данные позиции,
несомненно, должны учитываться и отражаться в определении и
характеристике философии истории психологии2.
Проявление качественных характеристик философии как
«общего» в философии науки – «явлении частном», очевидно. Еще
в древнеиндийской «Артхашастре» философия провозглашалась
«светильником для всех наук, средством для совершения всякого
дела, опорою всех установлений»3.
Философия науки возникла в середине XIX века благодаря
трудам философа, священника и педагога Уильяма Хьюэлла (в не-
которых переводах – У. Уэвелл). Ученый определил предмет этой
дисциплины, сформулировал проблемы науки, представления о
методах, структуре научного знания, их социальных и ценностных
предпосылках, путях развития и трансляции в сферы жизнедеятель-
ности общества4. Как подчеркивают историки, становление профес-
1 Подробнее см.: Разин А.В. Методология Канта и Гегеля в свете научных
методов познания // Философия и общество. – 2023. Вып. № 4 (109).
2 См. подробнее: Куликов С.Б. Основы философского анализа науки:
методология, смысл и цель. – Томск, 2005; Чистякова А.И. Философский
анализ науки // Журнал философских исследований. – 2016. Т. 2. № 1.
3 Подробнее см.: Кальянов В.И. Артхашастра, или Наука политики. – М.,
2011.
4 См.: Уэвелл У. История индуктивных наук от древнейшего до настоящего
времени: В 3 т. Репринтное издание 1867–1869 гг. – СПб., 2018: Хьюэлл У.
Философия индуктивных наук, основанная на их истории: В 2 т. – М.,
2016; Хьюэлл У.О. Конт и позитивизм // Эпистемология и философия
науки. – 2017. Т. 54. № 4. – С. 209–224.
II. Философия истории психологии: источники, определение, содержание
42
сиональной науки, реформирование университетского образования
и научно-техническая революция – контексты, вне которых оценка
вклада У. Хьюэлла в философию и науку невозможна. Им впервые
употреблены термины «наука» – science и «ученый» – scientist.
В «Философии индуктивных наук» (1840) он пишет: «Нам крайне
нужно подобрать название для описания занимающегося наукой
вообще. Я склонен называть его ученым» 1.
Концепция развития науки У. Хьюэлла во многих отношениях
предвосхитила теории логического позитивизма ХХ века. Ученый,
стремясь построить философию науки как обобщение ее истории,
в итоге сформулировал значительную часть ее современной про-
блематики2.
Философское осмысление науки было генерировано античными
мыслителями и продолжено плеядой исследователей Средневековья
и Нового времени. Как самостоятельное направление философия
науки утвердилась в работах Дж.С. Милля, О. Конта, Г. Спенсера,
Дж. Гершеля. В ХХ столетии философия науки явилась одной из
сложнейших и востребованных междисциплинарных и интегра-
тивных конструкций3.
Философия науки в своем развитии прошла несколько этапов.
На первом проблематика философии науки определялась иссле-
дованиями психологических и индуктивно-логических процедур
эмпирического познания. На втором этапе, обусловленном новой
физической картиной мира, предметом анализа стали содержатель-
ные основы науки, прежде всего теории относительности и кван-
товой механики. Третий этап – 1920–1940-е годы, считающийся
«аналитическим», соотносился с анализом языка науки в рамках
классического неопозитивизма.
1 Некоторые исследователи авторство термина «философия науки» от-
носят Е. Дюрингу, ссылаясь на его работу «Логика и философия науки»
(Лейпциг, 1878). Подробнее см.: Касавин И.Т. Философия науки // Новая
философская энциклопедия. Т. 4. – М., 2010. – С. 218–220.
2 Подробнее см.: Маркова Л.А. Концепция развития науки В. Уэвелла //
Ученые о науке и ее развитии. – М., 1971. – С. 194–232; Рождение фило-
софии науки. Уильям Хьюэлл, круг общения и следствия для XX века:
Монография / Ред. и сост. И.Т. Касавина, Т.Д. Соколова. – М., 2019.
3 Подробнее см.: Лебедев С.А. Философия и методология науки. – М., 2021;
Лебедев С.А. Философия научного познания: основные концепции. – М.,
2014; Лебедев С.А. Основные парадигмы эпистемологии и философии
науки. – М., 2012; Черняева А.С. История и философия науки. Структура
научного знания. – Красноярск, 2013; и др.
43
В 1934 году издается эпистемологический трактат К. Поппера
«Логика научного исследования», в котором основной проблемой
представлена демаркация науки от вненаучных форм знания. Уче-
ный вводит принципы фальсифицируемости научного знания,
интерсубъективного характера истины и внерациональности на-
учных постулатов. К. Поппер утверждает, что «деятельность ученого
заключается в выдвижении и проверке теорий», а «логика научного
исследования» занимается исследованием этого процесса. К крите-
риям проверки научной теории отнесены: внутренняя непротиво-
речивость системы; исключение тавтологии; ответ на вопрос, несет
ли новая теория вклад в научный прогресс; эмпирическая проверка
логических следствий. Если проверка пройдена, то теория может
считаться приемлемой – верифицируемой, в противном случае –
фальсифицируемой. Однако эта процедура не свидетельствует об
истинности теории: «Теории никогда эмпирически не верифици-
руемы».
Позже на «первый план» философии науки выходят: критика
догматов эмпирического редукционизма, дихотомии аналитиче-
ских и синтетических суждений; изучение логики научного объ-
яснения; проблемы редукции теорий; построение реалистических
и инструменталистских моделей структуры научных теорий1. На
следующем этапе расширяется понятие науки, актуализируется
изучение исторических законов и функции исторического объ-
яснения. К. Поппером формируется «новая логика» научного
исследования, критикуется психологизм, разрешаются проблемы
индукции, разграничиваются контексты открытия и обоснования,
проводится демаркация науки и метафизики, обосновываются
метод фальсификации и теории объективного знания. Тенденция
критики неопозитивизма усиливается в конце 1950-х годов с изда-
нием работ У. Куайна «Две догмы эмпиризма», сочинений Т. Куна,
М. Полани, Н. Гудмена, Н. Хэнсона.
В данный период выдвигается социокультурная парадигма в
рамках социологии знания и науки. Внимание ученых сосредо-
тачивается на стилях научного мышления, социальных ролях и
ценностных ориентирах ученых, амбивалентности научных норм.
При этом социологи науки продолжают утверждать естествознание
и математику в качестве научных эталонов.
1 См. работы Н. Кемпбелла, У. Куайна, Э. Нагеля, У. Селларса, К. Гемпеля,
Р. Брейтвейта, П. Бриджмена.
II. Философия истории психологии: источники, определение, содержание
44
Продуктивной явилась концепция социальной истории науки
нашего соотечественника Б.М. Гессена, оказавшая заметное влияние
на исследования научных революций и социологию науки1. Ученый
в 1931 году в составе делегации во главе с Н.И. Бухариным выступил
с содержательным докладом на втором Международном конгрессе
по истории науки в Лондоне. Советской «официальной наукой»
взгляды Б.М. Гессена были идентифицированы как «вульгарный
марксизм». Преследования ученого завершились 22 августа 1936 го-
да его арестом по обвинению в участии в контрреволюционной тер-
рористической организации и подготовке террористических актов.
20 декабря 1936 года Б.М. Гессен признан военным трибуналом
виновным и в этот же день расстрелян. Так открытые исследования
в рамках философии науки в нашей стране надолго прекратились,
оставаясь прерогативой «буржуазной» западной философии.
Новый, постпозитивистский этап развития философии науки
характеризуется дискуссией представителей «исторической школы»
и «критического рационализма» о возможности реконструкции
исторической динамики знания и неустранимости социокультур-
ных детерминант познания2. С этого этапа философия науки ста-
новится междисциплинарной отраслью со значительным числом
направлений3.
В итоге современная философия науки отражает свой «ориги-
нальный срез» рефлексивного отношения мышления к «бытию
науки». В ее объектно-предметном поле – сущность, содержание,
структура, особенности, причины зарождения, законы и законо-
мерности функционирования и развития науки, ее социальная
обусловленность и статус, совокупность мировоззренческих,
методологических, теоретических и иных основ и компонентов.
По другим оценкам, «предметом философии науки являются об-
щие закономерности и тенденции научного познания как особой
1 См.: Гессен Б. Социальные и экономические корни принципов Ньюто-
на // Фрейденталь Г., Маклафлин П. Социальные и экономические корни
научной революции. – Springer, 2009. – С. 41–101; Гессен Б. Предисловие
к статьям А. Эйнштейна и Дж. Томсона. – URL: http://socpol.uvvg.ro/
docs/2019-1/5.Hessen.pdf; Гессен Б. Физика и философия в Советском Союзе
1927–1931. Забытые дебаты о возникновении и редукции. – Springer, 2021.
2 См. работы М. Полани, С. Тулмина, Н. Хэнсона, Т. Куна, И. Лакатоса,
Дж. Агасси, П. Фейерабенда, К. Хюбнера, Г. Шпиннера, Л. Лаудана и др.
3 См. работы М. Беме, В. Крона, Б. Барнса, Д. Блура, И. Элкана, Б. Лату-
ра, С. Вулгара, Дж. Холтона, П. Суппеса, Ф. Саппе, M. Бунге, Дж. Снида,
В. Штегмюллера, П. Лоренцена, Ю. Миттельштрасса.
45
деятельности по производству научных знаний, взятых в их истори-
ческом развитии и рассматриваемых в исторически изменяющемся
социокультурном контексте»1.
Современные ученые все в большей степени проникаются
мыслью о том, что целью новой философии науки становится не
столько формирование трансцендентальных представлений, сколь-
ко построение моделей эволюции современной и будущей науки,
основанных на конкретно-содержательном и историческом анализе
ее содержания и развития.
Философия науки имеет сложную и многогранную структуру,
перекрывающую своим содержанием без преувеличения весь ряд су-
ществующих рефлексивных областей и форм достижения и отражения
научного знания. В самом обобщенном виде в структуре философии
науки в качестве составных и взаимосвязанных частей выделяются:
онтология науки; эпистемология; методология и логика науки; со-
циология, праксеология и аксиология науки. Иногда этот перечень
дополняется антропологией, культурологическим анализом науки
и научного знания. В качестве ее разделов выделяются философия
математики, философия физики, философия химии, философия био-
логии, философия медицины и т.п. Отражению их основ посвящена
огромная совокупность работ отечественных и зарубежных ученых2.
Основное ментальное различие философии науки и методологии
науки заключается в аксиомах: философия предполагает и «застав-
ляет» обобщать, спорить, доказывать, дискутировать, предсказы-
вать, в конечном итоге размышлять, думать даже в рамках одной
школы; методология – следовать «придуманному» в конкретных
стандартах, образцах, идеалах, нормах и иных «ограничениях».
1 Цит. по: Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и
техники. – М., 1996. – С. 9.
2 См., например: Гейзенберг В. Физика и философия: революция в совре-
менной науке. – М., 1958; Карнап Р. Философские основания физики. –
М., 2005; Каллендер К., Хаггетт Н. Физика встречается с философией в
масштабе Планка: современные теории квантовой гравитации. – М., 2001;
Рассел Б. Введение в математическую философию // Избранные работы
Бертрана Рассела / Пер. с англ. – Новосибирск, 2007; Светлов В.А. Фило-
софия математики. – М., 2006; Горохов В.Г. Основы философии техники
и технических наук. – М., 2007; История информатики и философия
информационной реальности: Учеб. пособие. – М., 2007; Попкова Н.В.
Философия техносферы. – М., 2007; Шевченко Ю.Л. и др. Философия
медицины. – М., 2004; Философия биологии: вчера, сегодня, завтра. – М.,
1996; Биофилософия / Под ред. А.Т. Шаталова. – М., 1997; Курашов В.И.
История и философия химии. – М., 2019; и др.
II. Философия истории психологии: источники, определение, содержание
46
Методология в качестве рефлексивного средства отражения знания
и процесса его достижения интегрирована в философию науки.
В данном значении методология истории психологии отражена в
следующей главе монографии.
С.А. Лебедев в философии науки выделяет следующий пере-
чень проблем: наука с точки зрения ее сущности, целей, идеалов и
возможностей; типы философских оснований науки и их реальное
содержание; общая структура, методы, закономерности функцио-
нирования и развития науки и научного знания; взаимосвязь науки
и общества, науки и государства, науки и человека. Особого внима-
ния, по мнению ученого, заслуживает соотношение эпистемологии
и современной философии науки. По итогам своих изысканий
С.А. Лебедев сделал значимые выводы:
цель философии науки – построение общей теории науки, ее
структуры, закономерностей развития, форм взаимодействия фило-
софии и реальной науки, анализ философских оснований и проблем
как науки в целом, так и отдельных научных дисциплин и теорий;
современная философия науки – междисциплинарное исследо-
вание реальной науки, по методу является синтезом философского
и конкретно-научного – исторического, логического, эмпириче-
ского – исследования науки;
структура современной философии науки изоморфна структуре
философии, ее разделы взаимосвязаны, только их синтез способен
дать ответ на вопрос, что есть реальная наука, каковы структура,
методы и закономерности ее развития1.
В результате эволюции философии науки выделялись ее клю-
чевые идеи и проблемы: единства научного знания и построения
целостной научной картины мира; определения понятий детер-
минизма, причинности, пространства, времени и т.д.; соотноше-
ния динамических и статистических закономерностей, анализа и
синтеза, индукции и дедукции, логики и интуиции, открытия и
обоснования, теории и фактов; демаркации науки и метафизики,
математики и естествознания, естественнонаучного и социально-
гуманитарного знания; относительной самостоятельности теоре-
тического и эмпирического уровней научного знания; реализации
процедур верификации, дедуктивно-номологического объяснения,
подтверждения и фальсификации в научном познании.
1 Лебедев С.А. Предмет и структура современной философии науки //
Вестник Московского ун-та. – Сер. 7. Философия и методология науки. –
2009. № 1.
47
В последние десятилетия в новые области знания выделились
социальная философия науки и коллективная эпистемология, в
рамках которых И.Т. Касавиным предложено осмысление про-
блематики познавательной коммуникации и коллективного субъ-
екта как «значимого водораздела» между критической социальной
эпистемологией (С. Фуллер) и аналитической социальной эписте-
мологией (Э. Голдман). Ученый рассматривает возникновение со-
циальной философии науки как закономерное следствие процесса
исследований социального контекста, в котором осуществляется
развитие науки. Данная концепция вводит в арсенал основ со-
циальной эпистемологии идеи М.М. Бахтина, Л.С. Выготского и
М.К. Петрова, существенно продвигающие понимание коммуни-
кативной природы познания1.
Историографы философии науки отмечают постоянное расши-
рение географии философии науки и ее отраслей. Наряду с признан-
ными центрами данного направления повсеместно образовались и
развиваются оригинальные национальные школы2. В полной мере
данная тенденция реализовалась в философии науки в России3.
1 См.: Касавин И.Т. Социальная философия науки: истоки, проблемы,
перспективы. – М., 2018; Касавин И.Т. Социальная философия науки и
коллективная эпистемология. – М., 2016; Социальная философия науки.
Идеи и дискуссии: Монография / Научн. ред. и сост. И.Т. Касавина, Т.Д. Со-
колова. – М., 2018; Мамчур Е.А. Проблемы социокультурной детерминации
научного знания. – М., 1987; и др.
2 См. труды А. Пуанкаре, Э. Мейерсона, П. Дюема, Г. Башляра, А. Койре,
М. Фуко, Г.X. фон Вригта, Л. Роутила, Я. Хинтикка, Л. Флека, К. Айду-
кевича и др.
3 См. труды В.И.Вернадского, Б.М. Гессена, И.А. Боричевского, А.А.Ма-
линовского, Б.М. Кедрова, П.В. Копнина, Б.Г. Кузнецова, М.Э. Омелья-
новского, Э.Г. Юдина, Б.С. Грязнова, С.Т. Мелюхина, А.П. Огурцова,
В.Н. Садовского, В.С. Швырева и др. См. подробнее: Проблемы и дис-
куссии в философии России второй половины XX в.: современный взгляд /
Под ред. В.А. Лекторского. – М., 2014; Петрова Г.И. Философия науки
в России: поиски обоснования национальной самобытности // Вестник
ТГУ. – 2007. № 299 (1); Огурцов А.П. Философия науки в России: марафон
с барьерами // Эпистемология и философия науки. – 2004. Т. 1. № 1; Абла-
жей А.М. От советской к постсоветской модели: воспроизводство науки
в России // Вест. НГУ. Сер. Философия. – 2011. Т. 9. Вып. 3; Гиндилис Н.
От советского к российскому науковедению // Наука и инновации. – 2014.
№ 1, а также материалы учредительной конференции Русского общества
философии и истории науки. 25–26 марта 2016 г. Москва. – URL: http://
iph.ras.ru/25_03_2016.htm.
II. Философия истории психологии: источники, определение, содержание
48
Традиционно важное место в творчестве и полемике ученых
занимает тема соотношения философии науки и ее истории. В ее
раскрытии создано множество теоретических конструкций. Так,
П. Дюгем призвал переоценить отношения между этими научны-
ми сферами, предложил новый способ анализа истории науки,
которая из «источника примеров» становится равной по статусу
эпистемологии и методологии. Философия науки является, по
мнению ученого, «ключом к логике исторического исследования»,
а теория – единицей методологического анализа, инструментом
классификации экспериментальных данных.
Эта трактовка стала в ХХ столетии основой логического по-
зитивизма. Согласно «тезису Дюгема – Куайна», верификации и
фальсификации подлежат не отдельные теоретические положения,
а теории в целом. Своими идеями П. Дюгем в значительной мере
способствовал новому пониманию предмета истории науки. Особое
место в его концепции занял конвенционализм (от лат. conventio –
соглашение), для обоснования которого он обращался к философии
и истории науки1.
Весьма убедительно обосновывал синтетическую концепцию
философии науки М. Вартофский: «Нам нужна диалектическая
история науки»2. К составляющим его концепции относятся следу-
ющие положения: метафизика играет определяющую роль в науке,
исторически была и продолжает быть эвристическим средством для
научного исследования и построения теорий; историзм – исход-
ная точка и ядро разрешения проблемы соотношения философии
науки и истории науки; историческая эпистемология призвана
объяснить, как мы получаем знания с учетом того, что способы
познания трансформируются с изменениями форм социальной
и технологической практики; в истории выделяются различные
типы отношений между философией науки и историей науки; в
основе современной стадии разрешения проблемы обозначенного
соотношения – генетическая онтология науки как «исторически
развивающаяся форма целенаправленной познавательной дея-
тельности или практики»; согласованные внутренние отношения
1 См.: Дюгем П. Физическая теория. Ее цель и строение. – М., 2007.
2 Подробнее см.: Вартофский М. Эвристическая роль метафизики в
науке // Структура и развитие науки. – М., 1978; Вартофский М. Соот-
ношение философии науки и истории науки // Вартофский М. Модели.
Репрезентация и научное понимание. – М., 1988. – С. 100–112.
49
между этими дисциплинами предполагают интегрированную фор-
му – философско-историческую теорию науки как изменяющейся и
развивающейся целенаправленной деятельности человека, которая
привносит в науку историчность, телеологичность, нормативность.
На этапе становления философии истории психологии инте-
ресной представляется концепция «рациональной реконструкции»
истории науки по правилам методологии, разработанная И. Лака-
тосом1. Его знаменитая статья «История науки и ее рациональные
реконструкции» (1971) начинается с «трансформированного»
афоризма И. Канта: «Философия науки без истории науки пу-
ста; история науки без философии науки слепа». Ранее близкое
к этому изречение «мысли без содержания пусты, интуиция без
концепций слепа» было сформулировано Н. Хэнсоном в 1962 году
в работе «Несоответствие истории науки философии науки» на
основании подобной кантовской максимы из «Критики чистого
разума».
В 1967 году И. Локатос в «Доказательствах и опровержениях»
размышлял о том, что «при современном господстве формализма
невольно впадаешь в искушение перефразировать Канта: история
математики, лишившись руководства философии, сделалась сле-
пой, тогда как философия математики, повернувшись спиной к
наиболее интригующим событиям истории математики, сделалась
пустой»2.
При апеллировании к взаимодействию истории и философии
науки ученые обосновали противоположные подходы. Н. Хэнсон
утверждал, что философы должны использовать исторические сви-
детельства в качестве основы для анализа как по эвристическим,
так и по прагматическим причинам. Эта идея получила название
исторического поворота в философии науки в начале 1960-х годов.
И. Лакатос утверждал, что историки не могут писать исто-
рию науки без помощи теории науки. История науки не может
заменить философию науки, однако требует этого. Философия
науки продуцирует методологию историко-научного исследо-
1 См.: Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции //
Структура и развитие науки. Из Бостонских исследований по философии
науки. – М., 1978; Лакатос И. Методология научных исследовательских
программ // Вопросы философии. – 1995. № 4; Лакатос И. Фальсификация
и методология научно-исследовательских программ. – М., 1995.
2 См.: Лакатос И. Доказательства и опровержения. Как доказываются
теоремы. – М., 1967.
II. Философия истории психологии: источники, определение, содержание
50
вания в конкретную теоретическую реконструкцию, которой
руководствуется историк науки в толковании историко-научного
материала. История науки является надежным средством фальси-
фикации либо подтверждения выдвигаемых методологом рацио-
нальных реконструкций. В итоге сущностью философии науки,
по И. Лакатосу, является методология исследования истории науки,
которая составляет «кодекс научной честности» исследователя,
определяет его способ реконструкции и понимания научных про-
цессов.
Актуальным является соотношение философии науки с про-
изводными и смежными областями знания: эпистемологией,
гносеологией и методологией. Философия науки «рассматривает»
научные сферы через призму их генезиса, функционирования,
развития, динамики, прогресса и т.д., с одной стороны, и как
формы общественного сознания, мышления, познания, знаний,
а также социального и научного института, областей культуры,
этики и т.п. – с другой.
Эпистемология в содержательном плане более «ограничен-
на» – отражает и характеризует исключительно научное познание1.
В античности episteme означало высший вид отражения реально-
сти – доказательное и достоверное знание, к которому относили
математику и логику. Соответственно, эпистемология определялась
учением о доказательном и достоверном знании. Парменид, Платон
и их школы трактовали эпистему как знание истины, противо-
поставляя ее мнению, основанному на чувственном восприятии.
Данное направление именовалось учеными «анализом ума», «ис-
следованием познания», «критикой разума».
В философии данный термин впервые употреблен Д. Ферье в
1854 году в названии раздела его книги «Институты метафизики:
теория познания и бытия»2. Работы П.Л. Лаврова, Н.К. Михайлов-
ского, С.Л. Франка, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, Г.Г. Шпета
и других отечественных философов свидетельствуют о становлении
1 См.: Эпистемология в междисциплинарных исследованиях // Философия
науки. Вып. 19. – М., 2014; Микешина Л.А. Становление эпистемологии в
российской философии и социально-гуманитарных науках XIX–XXI ве-
ков. – СПб., 2021; Эпистемология: перспективы развития / Под ред.
В.А. Лекторского. – М., 2011; Поппер К. Эпистемология без познающего
субъекта // Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.
2 Ряд историков относят введение термина «эпистемология» к 1832 году,
другие – к 1847 году в рецензии нью-йоркского журнала «Эклектика».
51
эпистемологии социально-гуманитарного знания в России уже во
второй половине XIX – начале XX веков1.
Эпистемология прошла значительный исторический путь, объ-
единяя в «своем теле» течения критицизма, фундаментализма, нор-
мативизма, субъектоцентризма, наукоцентризма, когерентизма, ин-
финитизма, основоположничества, исторического контекста и т.д.
В конце XX века сформировалась неклассическая эпистемология,
радикально разнящаяся с прошлой и утверждающая иные стандарты
посткритицизма – отказ от постулатов классических направлений2.
На основании новых идеалов научного знания и типов рациональ-
ности в эпистемологии сформировались натуралистическое, гума-
нитарное и социальное направления.
В обобщенном виде эпистемология в своих различных формах
в качестве объектов включает: природу, предпосылки, сущность,
содержание, структуру, формы, смысл, достоверность, истинность,
вариативность и относительность знания, процесса его достижения;
методологические и теоретические конструкции; возможности,
границы, нормы, стандарты, критерии и факторы развития на-
учных изысканий3.
К основным вопросам эпистемологии отнесены: как устроено
знание; каковы механизмы его достижения – объективации и
реализации в теоретической и практической деятельности; ка-
кие бывают типы знаний; каковы законы познания и развития
знаний; каковы необходимые и достаточные условия знания,
его источники, структура и границы; как следует понимать обо-
снованность; что делает итоги познания и убеждения обоснован-
ными?
Как тенденция, в каждой научной сфере формировалась «собст-
венная» эпистемология, однако далеко не во всех таковая призна-
1 Подробнее см.: Микешина Л.А. Становление эпистемологии в россий-
ской философии и социально-гуманитарных науках XIX–XXI веков. –
СПб., 2021.
2 См.: Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая. –
М., 2001.
3 См.: Ильин В.В. Теория познания. Эпистемология. – М., 1994; Лектор-
ский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. – М., 2001; Ка-
савин И.Т. Эпистемология // Энциклопедия эпистемологии и философии
науки. – М., 2009; Микешина Л.А. Эпистемология в России: ее становление
в контексте гуманитарных и социальных наук // Эпистемология и фило-
софия науки. – 2019. Т. 56. № 1. – С. 8–22.
II. Философия истории психологии: источники, определение, содержание
52
валась в качестве самостоятельной отрасли. В результате в ответах
на поставленные вопросы в научных направлениях выделились
историческая, эволюционная, генетическая, формальная, мо-
ральная и социальная эпистемологии, метаэпистемология и ряд
ее ответвлений1. Сегодня в центре полемики – ключевые понятия
эпистемологии XX–XXI веков: субъект познания, знание, истина,
смысл, ценности, рациональность, релятивизм, интерсубъектив-
ность, артефакт, знак, символ и т.д. Наблюдается рост многооб-
разия концепций эпистемологии, причина которого – стремление
переосмыслить и модернизировать классическое философское
наследие, его науковедческие формы и стандарты2.
Если в упрощенном толковании эпистемология отражает от-
ношение «объект познания – знание», то гносеология – «субъ-
ект – объект познания». В этом контексте данные рефлексивные
сферы изначально по своим целям, основам и источникам близки,
по содержанию и исследовательским средствам взаимно перекры-
ваются и дополняются.
Гносеология (от греч. gnosis – знание, logos – учение) определя-
ется отраслью философии, отражающей сущность, содержание,
структуру, природу, законы, границы, виды, основания, средства
и возможности познания реальности во всех ее формах и многооб-
разии, критерии истинности и достоверности полученного знания.
Термин «гносеология» появился в 1832 году. В философию термин
«гносеология» ввел в 1862 году протестантский богослов и философ
Э. Целлер, автор фундаментального труда «Философия греков в ее
историческом развитии».
1 См.: Пиаже Ж. Генетическая эпистемология // Вопросы философии. –
1993. – № 5; Кезин А.В. Эволюционная эпистемология: современная
междисциплинарная парадигма // Вестник Московского университета.
Сер. 7. Философия. – 1994. № 5. – С. 3–11; Эволюционная эпистемология
и логика социальных наук. – М., 2000; Меркулов И.П. Тенденции раз-
вития эволюционной эпистемологии / Отв. ред. В.А.Лекторский. – М.,
2008; Конструктивистский подход в эпистемологии и науках о человеке /
Отв. ред. В.А. Лекторский. – М., 2009.
2 Подробнее см.: Эпистемология вчера и сегодня / Отв. ред. В.А. Лектор-
ский. – М., 2010; Никитина Е.А. Современная эпистемология: тенденции и
направления развития // Социально-гуманитарные знания. – 2010. № 1. –
С. 91–103; Ищенко Е.Н. Современная эпистемология и гуманитарное по-
знание. – Воронеж, 2003; Эпистемология в XXI в.: новые книги, справочные
материалы, рецензии и обзоры (2000–2011) / Институт философии РАН.
Отв. ред. А.Ю. Антоновский. – М., 2012; Лебедев С.А. Переборка эписте-
мологического // Вопросы философии. – 2015. № 6. – С. 53–65.
53
Изначально взгляды на познание имели «нефилософские»
формы: обыденно-эмпирические, мифологические, религиозные,
художественно-эстетические. Начиная с Сократа мыслители в боль-
шей степени искали первоначала бытия, позднее – возможность
познания многообразия бытия человека, природы и общества с
далеко идущими для науки последствиями. Первым «органоном»
гносеологии принято считать логические трактаты Аристотеля.
Многие наши философские стремления, сетовал Г. Гегель, оказы-
ваются «методом прежней метафизики, некритическим и безотчет-
ным мышлением». В противовес прошлым стереотипам в основе
гносеологии И. Кантом были определены три уровня познания:
чувственное, рассудочное и разумное1.
Позднее в гносеологии целью научного познания считалось
отражение действительности и достижение нового знания на осно-
вании «собственной» методологии. Следуя кантовской традиции,
центральную позицию в гносеологии кроме субъекта и объекта
заняли чувственное и рациональное познание, различные формой
их научной рефлексии.
В Новейшем времени проблематика теории познания в ее
эволюции стала чрезвычайно широкой и многогранной2. Важной
характеристикой гносеологии становится ее взаимодействие с на-
уками, включающими в свое содержание элементы логики, мето-
дологии и истории науки, семиотики, информатики, когнитивной
психологии и др. Современные теории познания вводят в свой по-
нятийно-категориальный аппарат систему терминов, определяемых
социокультурным контекстом.
Во все времена осмысление возможностей познания являлось
«второй стороной» основных вопросов философии, в ответах на
которые сформировались скептицизм, релятивизм, агностицизм,
конвенционализм и т.п. Оригинальным направлением, сохранившим
1 См., например: Тишин А.И. Органон и канон кантовской гносеологии //
Общечеловеческое и национальное в философии. Кантовские чтения.
II Международная научно-практическая конференция КРСУ (27–28 мая
2004 г.). – Бишкек, 2004. – C. 19–28.
2 Подробнее см.: Гносеология в системе философского мировоззрения. –
М., 1983; Теория познания: В 4 т. / Под ред. В А. Лекторского, Т.И. Ой-
зермана. – М., 1991–1995; Лешкевич Т.Г. Философия и теория познания:
Учебное пособие. – М., 2013; Ильин В.В. Теория познания. Симвология.
Теория символических форм. – М., 2013; Ильин В.В. Теория познания.
Социальная эпистемология. Социология знания. – М., 2014; Арлычев А.Н.
Онтология и теория познания. – М., 2016; Соломоник А.Б. Семиотика и
теория познания. – М., 2012; и др.
II. Философия истории психологии: источники, определение, содержание
54
смысловую связь с классической гносеологией и претендовавшим на
ее радикальное переосмысление, явилась аналитическая философия1.
По поводу перспектив и потенциала познания симптоматично
выразился Г. Гегель: «У скрытой и замкнутой вначале сущности
Вселенной нет силы, которая могла бы противостоять дерзанию
познания; она должна раскрыться перед ним, показать ему свои
богатства и свои глубины и дать ему наслаждаться ими».
С античности целями философии истории ставились исследо-
вание и интерпретация единого и целостного процесса эволюции
человечества2. Термин «философия истории» введен в научный
оборот Вольтером, который определял таковой критическим от-
ношением к истории, основанным на анализе и оценке многочис-
ленных фактов, непосредственных данных и мнений о событиях
прошлого3. В начале ХХ столетия один из основателей Баденской
школы неокантианства Г. Риккерт опубликовал работу «Филосо-
фия истории»4. В Новейшем времени актуализация соотнесения
научных конструкций с историей науки, ее представления источ-
ником методологических проблем, их теоретической постановки,
осмысления и разрешения философии науки связана с работами
Н. Хэнсона, М. Полани, Дж. Холтона, С. Тулмина, Л. Лаудана и
других ученых второй половины 1950-х годов5.
1 См.: Вригт Г. X. Аналитическая философия: историко-критический об-
зор // Кантовский сборник. Вып. № 2 (44). – 2013; Аналитическая фило-
софия: Учебное пособие / Под ред. М.В. Лебедева, А.З. Черняка. – М., 2006;
Современная аналитическая философия. Вып. 1. – М., 1988; Аналитическая
философия: Избр. тексты. – М., 1993; Аналитическая философия: станов-
ление и развитие (антология). – М., 1998.
2 См.: Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. Книга 1. – СПб., 1993;
Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977; Карим-
ский А.М. Философия истории Гегеля. – М., 1988; Лосев А.Ф. Античная
философия истории. – М., 1977; Ясперс К. Смысл и назначение истории. –
М., 1991; Коллингвуд Р.Г. Идея истории. – М., 1946; Левит К. Значение
в истории: теологические последствия философии истории. – М., 1949;
История науки в философском контексте. – М., 2007.
3 См.: Вольтер Ф.М. Философия истории. – СПб., 1868.
4 Риккерт Г. Философия истории. – СПб., 1908.
5 См.: Полани М. Личностное знание: на пути к посткритической фило-
софии. – М., 1985; Тулмин С. Человеческое понимание. – М., 1984; Хол-
тон Дж. Тематический анализ науки. – М., 1981; Лаудан Л. Наука и ценно-
сти // Современная философия науки: знание, рациональность, ценности
в трудах мыслителей Запада: Хрестоматия. – М., 1996; Летов О.В. Проблема
объективности научного знания в «историческом» направлении философии
науки: критический анализ концепций Н.Р. Хэнсона и М. Полани: Дис.
канд. филос. наук. – М., 1984.
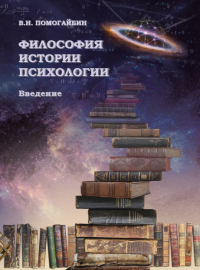
 eng
eng

